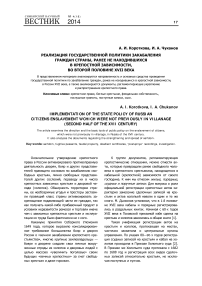Реализация государственной политики закабаления граждан страны, ранее не находившихся в крепостной зависимости, во второй половине XVII века
Автор: Короткова Александра Ивановна, Чуканов Иван Альбертович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 4 (18), 2014 года.
Бесплатный доступ
В представленном материале анализируется направленность и основные средства проведения государственной политики по закабалению граждан, ранее не находившихся в крепостной зависимости, в России XVII века, а также анализируются документы, регламентирующие укрепление и распространение крепостного права.
Крепостное право, беглые крестьяне, феодальная собственность, послушные грамоты, поступные записи, сыск
Короткий адрес: https://sciup.org/14113998
IDR: 14113998
Текст научной статьи Реализация государственной политики закабаления граждан страны, ранее не находившихся в крепостной зависимости, во второй половине XVII века
Окончательное утверждение крепостного права в России активизировало противоправную деятельность дворян, бояр и других представителей правящего сословия по закабалению свободных крестьян, лично свободных представителей других сословий, переводу их в число крепостных зависимых крестьян и дворовой челяди (холопов). Обширность территории страны, ее необозримые угодья и просторы заставили правящий класс страны активизировать закрепощение подавляющей части ее граждан, так как получать какой-либо прибавочный продукт в условиях неразвитости ремесел и торговли иначе чем с зависимых крепостных крестьян и эксплуатации их труда было фактически не с кого.
Накануне принятия Соборного Уложения 1649 года, которое выразило консолидированное требование большинства бояр и дворян России о «вечном закабалении крепостного крестьянства», многие крупные землевладельцы — бояре и дворяне создали свои личные вооруженные отряды из холопов и дворовых людей с целью массово «увеличить поголовье» своих будущих «вечных крепостных» за счет свободных крестьян и даже горожан.
К группе документов, регламентирующих крепостнические отношения, можно отнести акты, которые превращали ранее свободного человека в крепостного крестьянина, находящегося в кабальной (крепостной) зависимости от своего господина. К ним мы относим жилые, порядные, ссудные и поручные записи . Для вопроса о роли официальной регистрации крепостных актов характерно занесение сделочных записей на крестьян и актов холопьей неволи в одни и те же книги. М. Дьяконов установил, что в 1-й половине XVII века кабалы и порядные регистрировались в раздельных книгах. Начиная с 60-х годов XVII века в Псковской приказной избе сделка на крестьян и холопов заносилась в общие книги [1].
Такая унификация регистрации актов на крестьян и холопов, протекавшая на местах, частично захватила и центральные органы управления. По указам 80—90-х годов регистрация ссудных записей на крестьян и кабал на холопов проходила в Приказе Холопьего суда [2]. В Приказе же Холопьего суда протекала с 1682 по 1688 год и регистрация всех видов сделочных записей относительно крестьян, не исключая поступных и купчих.
Из всего вышеизложенного можно сделать ряд выводов. Во-первых, если сделки с крестьянами, проживающими на территориях имений и вотчин, продаваемыми, даримыми или отчуждаемыми другими способами их владельцами, осуществлялись в Поместном приказе, то сделки с лицами, впервые на основе кабальных договоров поступающими в крепостные крестьяне и холопы, регистрировались в Приказе Холопьего суда (Холопьем приказе). Во-вторых, хотя эти процессы и проходили параллельно, однако они преследовали одну государственную цель — слияние крепостных крестьян и подневольных кабальных холопов в одну крепостную массу.
Предметом нашего изучения является нормативно-правовая политика правительства по вовлечению в крепостное право и холопство свободных людей . Как показало проведенное исследование, эта государственная политика реализовывалась двумя способами.
Первый способ включал в себя государственную поддержку добровольного поступления в крепостные крестьяне и холопы ранее свободных и сторонних людей.
Второй способ — это косвенная поддержка со стороны государства насильственного окрестьянивания и охолопливания свободных людей землевладельцами и другими частными хозяевами.
Рассмотрим практическую реализацию первого способа . В первую очередь речь может идти о порядных и ссудных записях , назначение которых было связано с пополнением крепостного населения феодальных хозяйств за счет еще не закрепощенных или временно освободившихся от крепостной зависимости, но лишенных средств к существованию элементов общества.
К ним мы относим прежде всего отпущенных на волю крестьян и холопов, выходцев из-за рубежа, в первую очередь из Малороссии (Украины), недавно присоединенной к Российскому государству. Это были случайно оказавшиеся на территории России иностранцы, а также «свободные», так называемые «гулящие люди», положение которых в известной мере было легализовано ст. 20 гл. XI Уложения. Церковные и монастырские вотчины всячески стремились вовлечь в крепостничество крестьян черносошных волостей.
Следует сразу оговориться, что порядные и ссудные акты не решали собою всей проблемы пополнения крепостного населения вотчин и поместий, так как с их помощью пополнение рядов подневольных крепостных крестьян и холопов не превышало, по разным оценкам, 10 % от всего потока. В отдельные годы этот процент достигал 20 и более. Существенным источником дополнения рядов крепостных в условиях XVII века были пленные (от 5 до 10 % вновь пополняемых крепостных [3]).
Однако это был все-таки значительный процент населения, ранее бывшего свободным, но по тем или иным причинам угодившего в крепостную зависимость [4]. Но все-таки в большей степени частные помещичьи и вотчинные хозяйства пополнялись за счет государственного пожалования в частные руки земель, населенных черносошными и дворцовыми крестьянами, а также переселения на пустующие и вновь осваиваемые земли крепостных крестьян из имений, расположенных в центральной части страны [5]. Только при Алексее Михайловиче было роздано из дворцовых земель 13 960 крестьянских дворов, при царе Федоре Алексеевиче — 6274 крестьянских двора. С 1682 по 1690 год было роздано 17 168 дворов, с 1690 по 1699 год — 7337 дворов [6].
Разберемся с проблемой перевода в крепостные крестьяне военнопленных . Войны на западе против Польши и Швеции, а частью и на востоке против крымских татар и некоторых кочевых племен, например, калмыков, открывали широкие возможности пополнения рядов крепостных крестьян за счет военнопленных литовских, польских крестьян, ногайцев, татар и лиц других национальностей, среди которых попадались даже шведы. Служилые люди — помещики, получив при взятии того или иного города свою часть военной добычи, немедленно отправляли пленных, а также членов их семей в свои вотчины и поместья, женили их на крепостных, угрозами заставляли подписывать кабальные договоры [7].
Правительство указами и грамотами санкционировало превращение иноверных пленных в крепостных людей и брало на себя сыск и задержание беглых из их числа. Первым из этих указов периода войны с Польшей был указ 30 июля 1654 года. Запрещая служилым людям брать в плен «белорусцев пахотных крестьян» Вельского, Дорогобужского и Смоленского уездов и учреждая с целью проверки «полона» заставы по дороге от Смоленска, указ вместе с тем разрешал «пропускать к Москве» тех пленных, которые «скажутся гражданами зарубежных городов литовские люди, католицкие, смяц-кие веры, и «жиды», и мурзы и всякие некрещеные люди» [8]. В дальнейшем официально было разрешено закрепощать украинцев, взятых в плен в ходе военных событий 60-х годов [9].
Превращение пленных в крепостных правительство возложило на Приказ Холопьего суда и приказные избы городов. В этом смысле интересен указ 27 февраля 1656 года, известный нам в форме памяти Разрядного Приказа и Приказа Холопьего суда: «...которые московские и городовые всяких чинов служилые люди учнут бить челом государю, а в Холопий приказ учнут к записке приводить полонянников, которые взяты в литовском походе в прошлых во 162 и во 163-м и в нынешнем во 164-м году, и тех полонянников расспрашивать, где, которого году и хто взял, распросные речи и сказки их в книгу записывать и отдавать тем, кто привел к записке. А из городов прислать в Холопий приказ с теми же за-письми» [10]. В Приказе Холопьего суда долгое время велись записные полонянные книги. Выписи из этих книг можно встретить среди материалов некоторых вотчин [11]. Как показывает проведенное исследование, полонные книги велись в Приказных и Съезжих Избах городов [12].
Специальные царские указы 80-х и 90-х годов неоднократно требовали от помещиков и вотчинников записывать «полонных людей» в Москве в Приказе Холопьего суда и в городах в приказных избах. В этой связи излагаем выписку из указа царя Федора Алексеевича от 20 апреля 1681 года: «…Если у всяких чинов людей есть литовские и немецкие полоняники, а взяты в плен и крещены, и если ость литовские люди и немцы и татары купленные, или есть такие люди по поступным, даяным, сделочным и по жилым записям, то таких людей приводить к записке в Москве в Приказ Холопьего суда, а в городах — в Съезжие Избы. Без записи таких людей не держать. Если в Москве таких людей не запишут с 20 апреля 1681 г. по 20 апреля 1682 г., а в городах — в течение года с момента получения грамоты, то владельцы теряют права на своих людей при их побеге и в случае записи за другим лицом» [13].
Результатом правительственной политики в вопросе перевода в крепостную зависимость военнопленных на протяжении 2-й половины XVII века явилось официально провозглашенное в связи с заключением «Вечного мира» с Польшей в 1686 году закрепление прав вотчинников и помещиков на крестьян и холопов из числа пленных. В одном из документов было прямо записано, «…что прошедшую же войну нашего царского величества всяких чинов ратные люди польского и литовского народа, шляхты и войсковых всякого чина людей и пашенных крестьян пленом поймали… и тому всему вышеупомянутому полону… которые ныне у бояр наших и у окольничих, и у думных, и у ближних людей в поместьях и в вотчинах поселены во крестьянех и в задворные люди и во дворех в холопстве, сим вечным мирным договором постановлено остатися… при тех же помянутых чинех вечно ж» [14]. То есть государство, помимо наделения землей дворян и бояр-военнослужащих, разрешило им закрепощать и военнопленных, которых те привозили в оковах с театров военных действий.
Из этого можно сделать несколько выводов. Во-первых, царское правительство 2-й половины XVII века поднимало вопрос о пополнении рядов крепостных людей за счет военнопленных и иноверцев до уровня общегосударственной задачи. Во-вторых, именно путем раздачи военнопленных правительство стремилось компенсировать боярам и дворянам — участникам войн те потери, которые их поместья и вотчины несли в результате массовых побегов крепостных крестьян.
Воспользовавшись проводимой государством во второй половине XVII века политикой консервации утвердившихся в XVI веке крепостнических отношений, бояре и дворяне стали прикладывать все усилия для того, чтобы закрепить в крепостной и холопьей зависимости тех жителей городов и сел, родственники которых побывали в крепостной зависимости, но сумели каким-то образом получить свободу (вольную) от своих прежних хозяев.
Значительное число порядных и ссудных записей , назначение которых было связано с пополнением крепостного населения феодальных хозяйств за счет еще не закрепощенных или временно освободившихся от крепостной зависимости, но лишенных средств к существованию элементов общества, также говорило об этом массовом источнике пополнения крепостных кадров. То есть речь шла о займе, ссуде, которые крестьяне были вынуждены брать в тяжелых условиях засухи или неурожая у монастырей, бояр-вотчинников и дворян, а в случае невыплаты или несвоевременной выплаты могли пополнить собой ряды крепостных крестьян [15].
Другая особенность была связана с тем, что при сохранении поряда на срок практика пере-поряда одних и тех же крестьян и их наследников приводила к тому, что порядные записи на срок превращались фактически в бессрочные [16]. Потом эти выписи попадали в переписные и писцовые книги, а запись таких крестьян за монастырем в переписных книгах 1678 года превращала их в крепостных крестьян монастырской вотчины [17].
Впоследствии в порядных записях появляется условие «жить за монастырем без выходу». Нередки были случаи порядных, в которых проживание поряжающегося за монастырем предусматривалось «до смерти» или указание на срок поряда отсутствовало совсем. В некоторых порядных записях эти обязательства распространялись и на потомство поряжающегося. Крестьяне, попавшие таким образом в крепостную зависимость, окончательно закреплялись за монастырями переписными книгами.
Стоит особо сказать о государственной практике прикрепления свободных крестьян к государственным землям. Порядные записи наряду с поручными фиксировали зависимость государственных крестьян от хозяина земли — государства. Государство в XVII веке массово направляло черносошных крестьян на свободные, незаселенные земли в восточных районах страны. Выдавали ему денежную ссуду на «обзаведение». При этом на поселенца десятинной пашни — свободного крестьянина делалась порядная запись, которая возлагала обязанность «двором поселитца и заимка на себя пашня распахать и всяким крестьянским заводом завестись», «быти в пашенных крестьянах... пашня государева пахать... и поделки делати», «никаким воровством не воровать, зернью и карты не играть и не бражничать». Почти без исключений порядные предусматривали условие: «...никуда не збежать». В. И. Шунков справедливо усматривает в этом обстоятельстве норму личного прикрепления «порядившегося к владельцу, в данном случае к государству по месту жительства». К концу XVII столетия норма прикрепления с самих крестьян распространяется на членов их семей [18].
В этой связи можно сделать ряд выводов. Во-первых, государство, выделяя крестьянам-переселенцам ссуды, подписывало с ними договоры и составляло на их основе порядные записи, в которых брало с них обещание «не збе-гать». Во-вторых, обязательство безвыездно жить и работать на государственной земле государство распространяло не только на самих крестьян, но и на членов их семей. В-третьих, внеэкономическое принуждение сказывалось как в стремлении лишить крестьянина права перехода, так и в принудительном его переселении на новые участки в новые районы.
Опасность порядной записи заключалась в том, что прибывшему в вотчину или поместье новопорядчику предоставлялась материальная ссуда на «обзаведение», включавшая в себя скот, зерно, семена, либо денежная сумма в ви- де ссуды. То есть порядная запись заменялась ссудной записью. М. А. Дьяконов подметил, что крестьянские записи употребляют оба термина в значительной мере безразлично, и пришел к выводу, что подмога и ссуда всего лишь «два разных термина для обозначения одного и того же явления». Вместе с тем М. А. Дьяконов устанавливает факт постепенной замены одного термина другим, в результате чего ссудная запись стала господствующим названием [19]. А ссудная запись могла стать основанием, если вчитаться в слово и букву Соборного Уложения 1649 года, для превращения свободного крестьянина в крепостного. То есть что касается юридической стороны дела, то следует подчеркнуть, что эволюция порядной записи и ее модификация в ссудную запись отражали общий рост крепостного права на протяжении XVII века.
Это было обусловлено тем, что впервые условие о невыходе новопорядчика от землевладельца появилось в порядных записях первой половины века. Крестьяне стали поряжаться «вечно» или «безвыходно». А Соборное Уложение в качестве основания для охолопления или закрепощения признавало исключительно понятие «ссудная запись» [20].
Последующее законодательство настойчиво требовало оформления на крестьян, приходящих в поместья и вотчины с отпускными, только ссудных записей и регистрации их в Приказе Холопьего суда и в приказных избах городов. Первый из числа известных нам указов такого рода датирован 23 мая 1677 года. Указ предписывал в случае челобитий людей и крестьян с отпускными «по тем отпускным брать на людях служилые кабалы, а на крестьянах ссудные записи» [21].
Таким образом, во-первых, ссудная запись сообщала землевладельцу наследственные права на крепостного крестьянина и распространяла зависимость на потомство последнего. Во-вторых, ссудная запись не знала никаких промежуточных переходных состояний в положении порядчика, подобных тем, какое знала порядная запись при наличии льготных лет. В-третьих, порядчик сразу же попадал в положение, равное положению других крепостных крестьян, включая старинных его крестьян, и на него распространялись все права господина вплоть до права отчуждения — уступки, мены, заклада и продажи другому лицу. В-четвертых, хотя эти обстоятельства обычно не оговаривались в ссудных записях, разумелись сами собой на основе существующих норм права и крепостнической практики. Так как «вольного» человека, ставшего холопом, делал таковым сам факт оформления служилой кабалы, то же самое происходило с крестьянином, вступавшим в зависимость через ссудную запись. На долю ссудной записи все более выпадала роль уловителя крестьян и холопов с отпускными. Здесь уместно еще раз вспомнить значительный поток царских указов 70—90-х годов об обязательности оформления по отпускным на крестьян ссудных записей, а на людей — служилых кабал.
Еще одним направлением закрепощения свободных людей стали так называемые поручные записи. Как известно, порука была древнейшим институтом феодального права. Она реализовывалась в виде поручных записей, так как порука являлась формой закрепления и гарантии имущественных и иных сделок между отдельными представителями господствующего класса . В то же время землевладельцы — бояре и дворяне и феодальное Российское государство в целом использовали институт поруки для внеэкономического принуждения крестьян .
С помощью поруки, подписываемой всеми жителями села в черносошной или дворцовой волости, землевладельцы, выделяя сельским жителям материальную помощь или предоставляя им принадлежащую им землю в аренду, добивались прикрепления работника к арендованной земле и исправного поступления ренты .
Однако наибольшего распространения достигла круговая порука на черносошных землях, собственником которых являлось государство. Общинно-корпоративная организация черносошного крестьянства благоприятствовала развитию поручительства. Помимо политического значения, связанного с закреплением работника, порука имела и определенный экономический смысл — в случае невыполнения обязательств лицом или группой лиц, например, жителями деревни, ставшими объектом поруки, ущерб государству или крупным землевладельцам всегда возмещали поручители.
Однако в Российском государстве, помимо чисто экономических, порука использовалась и в целях укрепления крепостного права . Во-первых, совершенно новым направлением в практике использования поруки во 2-й половине XVII века было применение ее в системе сыска беглых крестьян как средства, гарантирующего своевременную поставку спорных крестьян к суду и правильность определения принадлежности беглых какому-либо помещику при отсутствии или недостаточности прямых и официальных доказательств этой принадлежности.
Во-вторых, особенностью использования поруки в сыске беглых было то, что нормы ее применения были разработаны и санкционированы законодательством. Правительство возвело поруку в законодательную норму не только в отношении сыска беглых крестьян, но и шире — как одно из средств борьбы с побегами крестьян и холопов и одновременно с бродяжничеством и разбоями гулящих людей. Первое законодательное требование оформления поруки на пришлых людей — дворников включено в Новоуказные статьи 1669 года о татебных, разбойных и убийственных делах [22]. Достаточно сослаться на одну из статей царского указа, которая гласит, что «…дворников никому у себя, не записав в Земском приказе и без поручных записей, не держать, а в городах дворников записывать у воевод или у сыщиков по тому ж их держать с поруками» [23].
Впоследствии эти требования были представлены в указах 1680-х и 1690-х годов. Например, царский указ 8 апреля 1684 года запрещал «всяких чинов людям» держать в Москве в дворах и торговых заведениях дворцовых и помещичьих крестьян и гулящих людей без поручных записей. Если поручных записей «за скудостью взять будет нечем», то таких пришлых людей следовало записывать в Земском приказе, а из приказа брать на руки выписку о регистрации. Более того, указ устанавливал конкретный срок для оформления поручных и их регистрации — это нужно было обязательно сделать до 1 мая 1684 года.
Нарушителям указа грозили суровые санкции. Так, за невыполнение указа всем москвичам и жителям других городов была установлена торговая казнь, а пришлым людям-гостям — наказание в соответствии с виной. Самое малое это означало заковывание в цепи и помещение в тюрьму до выяснения личности. Если среди пойманных «гостей» оказывались помещичьи крестьяне, то их с расписками надлежало после проведенного разбирательства немедленно отправлять к владельцам. Вышеприведенный царский указ 1684 года регламентировал положение помещичьих и вотчинных крестьян и холопов, которые с разрешения своих господ прибудут в Москву «для найму работы». Было указано таких людей присылать для записи в Земский приказ, причем завести для этих целей особую книгу.
Новый царский указ от 19 марта 1686 года подтверждал требование указа 1684 года об оформлении поручных на пришлых людей и регистрации их в Земском приказе, угрожая за нарушение взысканием пени с держателей пришлых людей: первый раз — 25 руб., второй —
50 руб., а третий — 100 руб. за человека. При невозможности уплаты пени виновных предписывалось «ссылать в Сибирские и в Низовые го-роды на вечное житье» [24]. Указы 1684 и 1686 гг. были повторены в Статьях объезжим головам и в виде памятей разосланы в Разряд, Патриарший приказ и в Стрелецкие слободы. В 1686 году в Стрелецком приказе гулящие люди, жившие в Москве без поручных записей, были биты кнутом, а часть из них выслана в сибирские, украинские и понизовые города.
Помимо политической, существовала и экономическая порука . Дворяне нередко использовали поруку как средство прикрепления и принуждения крестьян выполнять те или иные поручения. Иногда поручные записи выступали в вотчинах и поместьях в качестве своеобразного дублера порядных грамот при поряжении крестьян из числа пришлых людей.
Однако наиболее часто поручные записи в частновладельческих хозяйствах применялись в качестве средства закрепления «непрошно сидящих», ненадежных крестьян с целью предупредить их побег или нежелательное для феодала поведение. В июле 1651 года крестьяне Покровского монастыря дали приставу съезжей избы Г. Ширину поручную за одного крестьянина в том, что жить ему в вотчине Покровского монастыря в крестьянах, не воровать и убытков не причинять.
В грамоте Б. И. Морозова приказчикам нижегородских вотчин говорилось о розыске беглых даточных, на которых были оформлены поручные записи. В случае непоимки даточных Морозов предписывал взять с поручителей других даточных.
Другая особенность поручной записи состояла в том, что, в отличие от рассмотренных нами закрепостительных актов, в которых обычно выступали два контрагента — дворянин или боярин — землевладелец или заменяющий его представитель власти и крестьянин, поручная запись была более сложным актом, фиксирующим определенные отношения трех сторон — землевладельца (или власти), крестьянина и поручителя. Поручители отвечали перед феодалом за крестьянина, ставшего объектом поруки [25].
В поручных записях, как и в порядных, оговаривались условия: «быт в пашенных крестьянах... пашня государева пахать... и поделки де-лати», «никаким воровством не воровать, зернью и карты не играть и не бражничать», «в государева ватт радеть» и, наконец, «никуда не збежать». Изучение актов такого рода позволи- ло В. И. Шункову прийти к важному выводу, что «общая идея крестьянской крепости, выраженная словами поручных и порядных «никуда не збежать», стремится подчинить себе порядок жизни деревни XVII в.» [26].
Более значительная роль поручных записей на черных землях, чем в хозяйствах частновладельческих, объяснялась тем, что государство как крупный земельный собственник имело возможность широко использовать круговую поруку черносошных крестьян, среди которых общинные порядки были сильнее, чем на частновладельческих землях. Усиление закрепости-тельного характера поручных записей на черных землях свидетельствовало о росте неполной собственности государства на черносошных крестьян.
Таким образом, было установлено, что российское законодательство XVII века не только не защищало право отдельных граждан от посягательств на их личную свободу и достоинство, но и нередко прикрывало этот социальный разбой, создавая почву для злоупотреблений лиц боярского, дворянского сословий, а также оправдывало бездействие государственных чиновников.
В результате крупные, средние и мелкие землевладельцы, представители правящего сословия, воспользовавшись тем, что государство всячески поощряло окончательное закрепощение крестьян, использовали бездействие властей в целях пополнения своей «говорящей» собственности и всячески стремились расширить вглубь и модернизировать крепостные отношения, вовлекая в эту незаконную орбиту своей деятельности значительное количество свободных людей.
-
1. Дьяконов М. Очерки из истории сельского населения в Московском государстве. СПб., 1898. С. 14.
-
2. Там же. С. 230—231.
-
3. Семевский В. И. Не пора ли написать историю крестьян в России. СПб. : Тип. Голье, 1904. С. 66—68.
-
4. Там же. С. 69.
-
5. Лиленфельд В. К. Как предупредить дворянское землевладение от неминуемой гибели. СПб., 1894. С. 51.
-
6. Очерки истории СССР. Период феодализма, XVII в. М., 1984. С. 149.
-
7. Загоскин Н. П. Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси. Казань : Унив. тип., 1875. С. 88.
-
8. ПСЗ I. № 135.
-
9. Очерки истории СССР. Период феодализма, XVII в. С. 167.
-
10. Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. Разряда, Белгородский стол. Стлб. 346. Л. 161.
-
11. См., например, выписи из Московской полонной книги в материалах вотчины Даудова. М., 1935. С. 25.
-
12. В апреле 1694 г. П. Загорский подал челобитную о выдаче ему владольной выписи из полонных книг на беглого полонного человека ввиду утраты прежней выписи при пожаре. Выпись Загорскому была выдана из полонных книг приказной избы Костромы (Архив сельца Зиновьева. СПб., 1913. С. 7).
-
13. РГАДА. Ф. Разряда, столбцы разных столов. № 28. Л. 36—38.
-
14. Там же. Л. 44—45.
-
15. Образцов Г. Н. Уложение 1649 г. и крестьяне вотчины Антониево-Сийского монастыря // Ист. зап. Т. 63. 1958. С. 269—282 (здесь освещен сыск вотчинных крестьян и за 70-е годы XVII в.).
-
16. Там же. С. 90.
-
17. Там же.
-
18. Пьянков А. П. Поземельный строй прикамской крепостной деревни. Конец XVIII в. Пермь, 1929. С. 133.
-
19. Дьяконов М. Очерки из истории сельского населения в Московском государстве XVI—XVII вв. СПб., 1898. С. 111, 117, 124.
-
20. ПСЗ. XI. 23, 32; XVIII, 40.
-
21. ПСЗ II. № 1073.
-
22. Новомбергский Н. Вымученные кабалы в Московской Руси XVII столетия // Журн. Министерства юстиции. 1915. № 5, 6. С. 288—338.
-
23. ПСЗ I. № 441. Ст. 39.
-
24. ПСЗ II. № 1071.
-
25. Шунков В. И. Очерки по истории земледелия Сибири (XVII в.). М. : Наука, 1956. С. 399.
-
26. Там же. С. 399—400.
Список литературы Реализация государственной политики закабаления граждан страны, ранее не находившихся в крепостной зависимости, во второй половине XVII века
- Дьяконов М. Очерки из истории сельского населения в Московском государстве. СПб., 1898. С. 14.
- Семевский В. И.Не пора ли написать историю крестьян в России. СПб.: Тип. Голье, 1904. С. 66-68.
- Лиленфельд В. К. Как предупредить дворянское землевладение от неминуемой гибели. СПб., 1894. С. 51.
- Очерки истории СССР. Период феодализма, XVII в. М., 1984. С. 149.
- Загоскин Н П. Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси. Казань: Унив. тип., 1875. С. 88.
- ПСЗ I. № 135.
- Очерки истории СССР. Период феодализма, XVII в. С. 167.
- Российский государственный архив древних актов (далее -РГАДА). Ф. Разряда, Белгородский стол. Стлб. 346. Л. 161.
- Выписи из Московской полонной книги в материалах вотчины Даудова. М., 1935. С. 25.
- Архив сельца Зиновьева. СПб., 1913. С. 7
- РГАДА. Ф. Разряда, столбцы разных столов. № 28. Л. 36-38.
- Там же. Л. 44-45.
- Образцов Г. Н.Уложение 1649 г. и крестьяне вотчины Антониево-Сийского монастыря//Ист. зап. Т. 63. 1958. С. 269-282
- Пьянков А. П. Поземельный строй прикамской крепостной деревни. Конец XVIII в. Пермь, 1929. С. 133.
- Дьяконов М. Очерки из истории сельского населения в Московском государстве XVI-XVII вв. СПб., 1898. С. 111, 117, 124.
- ПСЗ. XI. 23, 32; XVIII, 40.
- ПСЗ II. № 1073.
- Новомбергский Н. Вымученные кабалы в Московской Руси XVII столетия//Журн. Министерства юстиции. 1915. № 5, 6. С. 288-338.
- ПСЗ I. № 441. Ст. 39.
- ПСЗ II. № 1071.
- Шунков В. И. Очерки по истории земледелия Сибири (XVII в.). М.: Наука, 1956. С. 399.