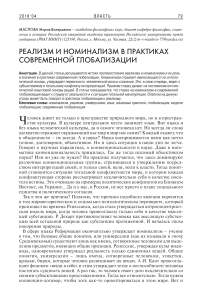Реализм и номинализм в практиках современной глобализации
Автор: Маслова Мария Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В данной статье раскрываются истоки противостояния реализма и номинализма и их роль и значение в практиках современной глобализации. Номинализм отрывает имена вещей от их онтологической основы, утверждает первичность человеческой воли и сознания. Это, в свою очередь, ведет к субъективизму и тотальному конфликту интерпретаций. Реализм ставку делает на постижение онтологической смысловой основы вещей. В статье показывается, что ставка на номинализм в современной глобализации ведет к отрыву от реальности и к ситуации тотальной манипуляции. Ответом на данную угрозу может быть поворот в практиках глобализации к реализму.
Номинализм, реализм, универсалии, язык, языковые практики, глобализация, модели глобализации, современная глобализация
Короткий адрес: https://sciup.org/170169031
IDR: 170169031 | DOI: 10.31171/vlast.v26i4.5767
Текст научной статьи Реализм и номинализм в практиках современной глобализации
Ч еловек живет не только в пространстве природного мира, но и в пространстве культуры. В культуре центральное место занимает язык. Вне языка и без языка человеческой культуры, да и самого человека нет. Но всегда ли слова адекватно отражают окружающий нас мир и мир нас самих? Каждый скажет, что в обыденности – не всегда. А в науке? Наука воспринимается нами как нечто точное, достоверное, объективное. Но и здесь ситуация в наши дни не легче. Говорят о научных парадигмах, о конвенциональности в науке. Даже в математике конвенциональность прижилась. Где же тогда искомый объективизм науки? Или он уже не нужен? На практике получается, что здесь доминируют различные конвенциональные группы, стремящиеся к утверждению посредством интерпретаций своей, и только своей, воли, воли к власти. Тогда понятной становится ситуация тотальной конфликтности мира, в котором каждая конфликтующая сторона рассматривает исключительно себя в качестве носителя истины. Это очевидно на примерах политических конфликтов на Ближнем Востоке, на Украине... Да и у нас, в России, не все просто в плане социального единства и политического согласия.
Так в чем же причина? Полагаю, что причина подобного явления коренится в том мировоззренческом и социально-психологическом перевороте, который произошел во времена Ренессанса, когда стала утверждаться антропоцентрист-ская модель мира, когда человек провозгласил только себя в качестве мыслящей субстанции. Р. Декарт противопоставил человека как мыслящую субстанцию всей остальной природе как субстанции протяженной. И началась эпоха покорения природы.
В сфере языка Реформация окончательно утверждает номинализм – учение о том, что базовые общие понятия, или универсалии (как их называли в эпоху Средневековья) существуют лишь как имена, сотворенные человеком для выделения предметов, имеющих общие признаки. Ренессанс, утверждая культ индивида, одновременно утверждал реальность только единичных вещей. Общие понятия, универсалии – лишь имена, сотворенные человеком, этикетки, ярлыки, бирки, которые человек развешивает на вещах. А И. Кант провозглашает феномен «вещи в себе» и этим утверждает тезис о неспособности человека постигать сущность вещей. А раз так, то человек имеет дело исключительно со своими субъективными представлениями. Тогда все относительно. Тогда нужна конвенция-договор, чтобы хоть как-то ориентироваться в этом мире. Вот и корни современного конвенционализма – антропоцентризм! Но положение дел было таким не всегда.
История Средневековья говорит о споре между реалистами, номиналистами и концептуалистами в вопросе о сущности универсалий. И этот спор — свидетельство кризиса той мировоззренческой картины, в которой доминировало представление об объективности универсалий. Суть реализма как средневекового течения в богословии и философии – в утверждении, что общие понятия онтологически первичны относительно отдельно взятых вещей. Стоики называли их логосами-сперматиконами – семенными логосами. В христианском мировосприятия утверждается, что посредством логосов-универсалий Бог сотворил всю вселенную. Вспомним слова апостола Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»1. И человек, согласно Библии, — словесное существо. Поэтому Христос в ответ на первое искушение говорит: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»2.
В христианской оптике слово связывает человека со всем миром и Творцом. В этой связи Т.А. Касаткина пишет: «Когда Адам давал имена животным, он должен был так постичь существо предстоящей пред ним твари, чтобы изнутри его родилось то слово, которым была сотворена тварь. Имя не нарекалось, а узнавалось, понималось, “прочитывалось” в творении. И прочтенное в творении слово было словом творящим» [Касаткина 2004: 16]. Но для того чтобы так читать творение, необходимо признать, что творящее слово первично, что человек — читатель в мире. Поэтому и Фома Аквинский писал о том, что природа – это тоже книга, созданная Творцом, которую человек должен научиться читать.
Ренессанс отказывается от такого типа и навыка чтения. Человек уже не вчитывается в творение, не вслушивается в другого и ближнего своего, а всему дает свою субъективную интерпретацию, свое представление о творении и ближнем. На смену чтению-диалогу приходит монолог-приказ. Ренессанс утверждает торжество человека, человеческого слова. Так утверждается культ человека в современном мире. В итоге, в современном международном лексиконе преобладают языковые практики тех субъектов глобализации, которые генетически связаны с эпохой Ренессанса. И этот субъект утверждает себя в форме своей модели глобализации, стремится реализовать свое понимание планетарного устройства. Доминирующим субъектом стал финансовый капитал англосаксонского мира.
Этот субъект создает свои речевые практики, в которых его собственная частная воля маскируется объективными процессами в обществе. Например, понятие «глобализация» вторглось в лексикон современного человека практически сразу после распада Советского Союза. Многие интеллектуалы преподносили глобализацию как объективное социальное явление. В этом ключе писал о сути глобализации М.Г. Делягин: «Глобализация представляет собой совершенно особый, современный и... высший этап интеграции. Это не позволяет нам присоединяться к студентам и докторам наук, утратившим душевное равновесие от возможности описать общеизвестные события в принципиально новых терминах (и, соответственно, побороться за качественно новые гранты) и восторженно разглагольствующим о глобализации в эпоху Великих геогра- фических открытий и даже ледникового периода… Несмотря на моду, понятие “глобализация” имеет свой собственный, определенный и даже наиболее распространенный в настоящее время (хотя и слишком часто воспринимаемый и понимаемый “по умолчанию”) смысл. Глобализация — это процесс формирования и последующего развития единого общемирового финансово-экономического пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий» [Делягин 2003: 51].
В США в этом же ключе выражается Ф. Фукуяма, который в своих работах и выступлениях утверждает торжество либерализма и неизбежность либеральной глобализации как объективного процесса развития человечества [Фукуяма 2004]. Для позиции Ф. Фукуямы характерен социал-дарвинизм: борьба идеологий в истории и победа сильнейшего в ходе естественного отбора. По Ф. Фукуяме, в естественном отборе победил либерализм. Вместе с либерализмом побеждают и утверждают себя и либеральные речевые практики, не допускающие никаких альтернатив. Либеральный лексикон претендует на универсальность. Такова судьба все того же слова «глобализация». Английский профессор З. Бауман пишет: «“Глобализация” сегодня у всех на устах; модное словечко, быстро превращающееся в лозунг, в заклинание, в некий ключ, способный открыть дверь к любым существующим и будущим загадкам» [Бауман 2004: 10].
А.С. Панарин в своих работах утверждал, что для модели глобализации в интересах мировых финансовых структур характерна риторика социал-дарвинизма и отказ от идеалов гуманизма: «Еще вчера понятие “открытое общество” включало весь набор либеральной благонамеренности — от пацифистского неприятия конфронтации до отказа от цензуры и любых государственных и сословных тайн. Сегодня оно обретает явный социал-дарвинистский оттенок, свидетельствуя о решительном разрыве с наследием христианского и просвещенческого гуманизма, о выборе в пользу сильных и приспособленных против слабых и “нищих духом”» [Панарин 2003: 56].
Наглядным примером является характер деятельности института «Открытое общество» (он же — фонд Сороса). Официально данная организация позиционирует себя в качестве международной благотворительной организации, учрежденной финансистом Джорджем Соросом. На практике вся деятельность структур «Открытого общества» связана с подрывной деятельностью против независимых государств — от Украины до США1. Для современных глобальных финансовых структур реализм не нужен. Они утверждают свою волю посредством своего понимания истории, будущего. Голливуд и СМИ — их орудия. Национальное государство с реальными интересами конкретных людей — помеха на пути транснациональных корпораций и банков. Риторика господ -ствующих глобальных структур соотносится с риторикой «малого народа» в истории Франции, представленной О. Кошеном [Кошен 2004], и с описанием этого же явления в истории России И.Р. Шафаревичем [Шафаревич 2014]. И.Р Шафаревич писал: «Огюстен Кошен в своих работах обратил особое внимание на некий социальный, или духовный, слой, который он назвал “малым народом”. По его мнению, решающую роль во французской революции играл круг людей, сложившийся в философских обществах и академиях, масонских ложах, клубах и секциях. Специфика этого круга заключалась в том, что он жил в своем собственном интеллектуальном и духовном мире: “малый народ” среди “большого народа”. Можно было бы сказать – антинарод среди народа, так как мировоззрение первого строилось по принципу обращения мировоззрения вто рого. Именно здесь вырабатывался необходимый для переворота тип человека, которому было враждебно и отвратительно то, что составляло корни нации, ее духовный костяк: католическая вера, дворянская честь, верность королю, гордость своей историей, привязанность к особенностям и привилегиям родной провинции, своего сословия или гильдии. Общества, объединявшие представителей “малого народа”, создавали для своих членов как бы искусственный мир, в котором полностью протекала их жизнь. Если в обычном мире все проверяется опытом (например, историческим), то здесь решает общее мнение. Реально то, что считают другие, истинно то, что они говорят, хорошо то, что они одобряют. Обычный порядок обращается: доктрина становится причиной, а не следствием жизни» [Шафаревич 2014: 318-319].
Признаки этой социальной группы, «малого народа», можно видеть и в условиях современной глобализации, когда выделилась социальная группа, «малый народ», но уже в масштабах планеты, которая стремится навязать свои доктринальные положения всему миру. Они также считают, что их доктрина – это истина, она – основа всего сущего, а жизнь народов, человечества вторична. Геополитически эта глобальная социальная группа соотносится с США. Отсюда и претензии этой страны на исключительность и превосходство над всем миром и нежелание слышать другие страны и народы. США как рупор глобальной элиты может только вещать ее волю всему миру. Слушать других они не желают. Общие понятия «права человека», «демократия», «развитие», «прогресс», «единство», «справедливость» и т.п. стали исключительно номинальными и не имеют никакого реального соотношения с жизнью конкретных народов и людей. Так, прикрываясь риторикой о защите прав человека, США осуществляют государственные перевороты по всему миру [Люттвак 2012].
Обратимся опять к И.Р. Шафаревичу: «представителя “малого народа”, если он прошел весь путь воспитания, ожидает поистине чудесное существование: все трудности, противоречия реальной жизни для него исчезают, он как бы освобождается от цепей жизни, все представляется ему простым и понятным. Но это имеет свою обратную сторону: он уже не может жить вне “малого народа”, в мире “большого народа” он задыхается, как рыба, вытащенная из воды. Так “большой народ” становится угрозой существованию “малого народа”, и начинается их борьба: лилипуты пытаются связать Гулливера» [Шафаревич 2014: 319-320].
«Чудесное существование» для себя видят и представители глобальных элит, для которых жизнь человечества видится простой и понятной. И если человечество не укладывается в доктрину глобалистов – тем хуже для человечества, которому под покровом риторики о мире и демократии по сути дела объявлена война. Вполне очевидно, что в языковых практиках доминирующего на данный момент субъекта глобализации (транснациональные банки и корпорации) номинализм стал стратегическим инструментом. Целые народы, культуры и цивилизации превращаются в пустые имена для тех, кто ведет глобальную игру в планетарном масштабе и стремится утвердить свою волю и власть над миром.
Обращение к реализму, учет реальных интересов конкретных, а не отвлеченных людей, народов, культур, цивилизаций – основа общечеловеческого ответа на вызовы и угрозы глобальных элит.
Список литературы Реализм и номинализм в практиках современной глобализации
- Бауман З. 2004. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь Мир. 188 с
- Делягин М.Г. 2003. Мировой кризис: Общая теория глобализации. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М. 768 с
- Касаткина Т.А. 2004. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М.: ИМЛИ РАН. 480 с
- Кошен О. 2004. Малый народ и революция. М.: Айрис-Пресс. 296 с
- Люттвак Э. 2012. Государственный переворот: Практическое пособие. М.: Университет Дмитрия Пожарского; Русский фонд содействия образованию и науке. 326 с
- Панарин А.С. 2003. Искушение глобализмом. М.: Эксмо. 416 с
- Фукуяма Ф. 2004. Конец истории и последний человек. М.: ACT; НПП «Ермак». 588 с
- Шафаревич И.Р. 2014. Русофобия. -Полное собрание сочинений. В 6 т. М.: Институт русской цивилизации. Т. 2. С. 275-478