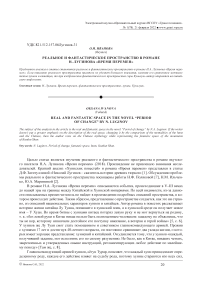Реальное и фантастическое пространство в романе Н. Лугинова «Время перемен»
Автор: Иванова Оксана Иннокентьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (78), 2022 года.
Бесплатный доступ
Предметом анализа в статье становится реальное и фантастическое пространство в романе Н.А. Лугинова «Время перемен». Если описанию реального пространства писатель не уделяет большого внимания, заменяя его сравнением менталитетов хуннов и китайцев, то при изображении фантастического пространства горы Куньлунь автор опирается на китайскую мифологию.
Н. лугинов, время перемен, фантастическое пространство, хунны, кунь-лунь
Короткий адрес: https://sciup.org/148324009
IDR: 148324009 | УДК: 821.512.157.06Лугино6-31
Текст научной статьи Реальное и фантастическое пространство в романе Н. Лугинова «Время перемен»
Целью статьи является изучение реального и фантастического пространства в романе якутского писателя Н.А. Лугинова «Время перемен» (2018). Произведение не привлекало внимания исследователей. Краткий анализ «Хуннских повестей» и романа «Время перемен» представлен в статье Д.Ф. Загитуллиной «Николай Лугинов – сказитель истории древних тюрков» [1]. Обсуждению проблемы реального и фантастического пространства посвящены работы Н.Ф. Поляковой [7], Н.М. Ильченко, Ю.А. Марининой [2].
В романе Н.А. Лугинова «Время перемен» описываются события, происходившие в V–III веках до нашей эры на границе между Китайской и Хуннской империями. По всей видимости, из-за давности описываемых времен читатель не найдет в произведении подробных описаний пространства, в котором происходит действие. Таким образом, представление о пространстве создается, как это ни странно, из описаний национальных характеров хуннов и китайцев. Автор романа в повестях рассказывает историю жизни китайца Лу Туана, попавшего в хуннский плен, а в хуннской среде он получает новое имя – У Хуан. Во время битвы с хуннами китаец потерял левую руку и не мог вернуться на родину, т. к. «без левой руки в Китае никак нельзя быть полноценным человеком: каждому не объяснишь, что ты не вор, которому назначили достойное его поступку наказание, а ветеран и герой войны» [5, с. 6]. У хуннов же Лу Туан смог стать помощником и советником главнокомандующего армией. Прожив с хуннами 17 лет и достигнув 40-летнего возраста, он постоянно сравнивает два уклада жизни, о которых имеет хорошее представление: хуннский и китайский. Он удивляется тому, что у хуннов «каждый, получивший задание, мог исполнить его по своему разумению. Не было, как в Китае, никаких четких, закрепленных и утвержденных свыше инструкций, регламентирующих любое действие по малейшему поводу» [Там же, с. 8].
Главнокомандующий армией хуннов, сёгун Турар, поясняет, что каждый хунн принадлежит определенному роду, каждое его действие влияет на судьбу рода, поэтому хунны стараются изо всех сил, чтобы выглядеть лучше в глазах других. Также удивляет У Хуана то, что, считая воровство немыслимым делом, хунны почитают за доблесть участие в грабеже соседних племен. У Хуан поражен тем, что хунны не едят зелень, не просто брезгуют, а ненавидят змей, червей и ящериц, по китайским понятиям очень вкусных. Таким образом, У Хуану приходится скрывать в хуннской среде свои кулинарные пристрастия. Импонирует китайцу тот факт, что у хуннов «любое отклонение человека от общепринятых норм поведения бросало тень на весь род, и каждый с самого рождения и до смерти помнил об этом и ревностно придерживался множества коренных и даже, можно сказать, кровных, сберегающих ограничений и правил, выполняя с достоинством все необходимые обязанности, все приказы» [5, с. 23]. Тот есть китаец У Туан выступает в данном случае как национальный Другой, оценивающий хуннов с точки зрения представителя великой цивилизации. Он думает: «бывший Лу Туан наконец-то посмел сравнить два этих совершенно несравнимых мира, признавая – пусть даже только мысленно – некое если не равенство, то сопоставимость их, саму возможность судить об их плохих или хороших свойствах и качествах в сравнении… чего? Древнего и мудрейшего государственного устроения – и полукочевой варварской орды?» [Там же, с. 11].
Роман состоит из пяти повестей. Сюжетообразующей для третьей и четвертой повестей является бинарная оппозиция между Саратаем и Харатаем. Государство Саратай выросло на голых камнях, когда люди узнали, что эти предгорья богаты нефритом, серебром и золотом. В этой местности собрались проходимцы, склонные к махинациям, воровству, мотовству и разбою. Армия Саратая была набрана из не связанных никакими общими интересами бродяг, которых впоследствии заменили наемники. Перевороты в Саратае происходили чуть ли не каждый год. В отличие от хуннов «саратайцы жили вне рода – вольные, свободные люди, независимые от каких-либо общих правил» [Там же, с. 185]. Ха-ратайцы, состоящие в родстве со степными хуннами, обитают возле южных подножий Алтая. Если слово «сара» в переносном смысле означает «чужаки» или «отщепенцы», то слово «харатай» состоит из двух слов: «хара» – север, «таай» – дядя по материнской линии. Харатайцев автор описывает как людей, ведущих полуоседлый образ жизни, строящих деревянные дома, умеющих класть довольно сложные по строению печи. Автор романа пишет, что «Тэнгри словно привязал их к одному определенному месту – к ставшим родными горам, речкам озерам, к домам, возведенным на всю жизнь. В отличие от остальных хуннов, они предпочитали жить и умирать у себя дома. В обычае у них была и забота о мертвых соплеменниках» [Там же, с. 245]. К данной оппозиции применимо наблюдение Ю.М. Лотмана, высказанное в статье «О понятии географического пространства в русских средневековых текстах»: «Говоря о средневековом понятии географического пространства, необходимо остановиться и на идее избранничества, органически вытекавшей из деления земель на праведные и грешные. Порожденная ростом стремления замкнуться в себе, свойственным средневековому обществу на некоторых его этапах, эта идея накладывала отпечаток и на представление о пространстве. Оппозиция «свое/ чужое» воспринимается как вариант противопоставлений «праведное/грешное», «хорошее/пло-хое» [4, с. 300]. Соответственно, Саратай у Н. Лугинова – грешная, «чужая» земля, Харатай – праведная, населенная родственным народом.
С Саратаем связана фигура Окоя – одного из временных правителей государства и отца поводыря слепорожденного внука хуннского сёгуна Турара Хойгура. Слепой внук Турара Акол с детства наслушался историй У Хуана о горах Куньлунь, священном месте, где проживают божества. Он выбирает в качестве поводыря для паломничества в святые места прохиндея Хойгура, т. к. именно его избрали высшие силы. Акол обладает способностью видеть невидимое, читать мысли и прозревать будущее. По поводу путешественников и путешествий Ю.М. Лотман пишет: «…длительное путешествие увеличивает святость человека. Одновременно стремление к святости подразумевает необходимость отказаться от оседлой жизни и отправиться в путь. Разрыв с грехом мыслился как уход, пространственное перемещение» [4, с. 299]. Сёгун Турар размышляет о паломничестве внука, используя словосочетания, близкие к формульным выражениям волшебной сказки: «Как добраться до тех мест за широкими пустынями, за быстрыми реками, за высокими горами?» [5, с. 149]. При этом Турар понимает, что палом- ник обязательно должен быть пешим, а это «явно не хуннский путь, потому что истинного хунна невозможно представить без коня» [5, с. 149]. Пройдя большое расстояние, не раз оказавшись на краю гибели, поводырь Хойгур и внук сёгуна Акол оказываются на вершине горы Куньлунь, в мифологическом Верхнем мире. Авторы энциклопедии «Мифология» пишут, что Куньлунь в древнекитайской мифологии – священная гора, находившаяся на западной окраине китайских земель. Куньлунь считалась также местом обитания Си-ванму и бессмертных [6, с. 302, 303]. Си-ванму («владычица Запада») – в древнекитайской мифологии женское божество, хозяйка запада, обладательница снадобья бессмертия [Там же, с. 497]. То есть на горе Куньлунь (в переводе с китайского «Лунные горы») живут достигшие бессмертия люди, знающие рецепт волшебной пилюли, состоящей из множества ингредиентов.
Вот как выглядит фантастический Верхний мир в романе Н.А. Лугинова: глазам путников открылась внизу невиданная средь горной каменной бедности картина – долина, манящая разнообразной зеленью… Много разных деревьев, кустарников, цветов. Воздух стал густым и сочным. Голубели озерца с чистейшей водой, в воде плескалась рыба, над ней кружило множество разнообразных птиц [5, с. 306, 307]. В верхнем мире паломников по святым местам встретили долгожители: юная мать и ее престарелые сыновья. Мать постоянно отчитывает лохматого младшего из сыновей, часто забывающего принимать лекарство и по этой причине выглядящего гораздо старше матери и старшего брата. Юная женщина и ее младший сын угощают гостей изысканными яствами, которые выглядят как невзрачные серые комочки. Юная мать, прототипом которой, по всей видимости, послужила героиня китайской мифологии Си-ванму, поясняет, что серый комочек – это выжимка из сорока четырех целебных трав. Затем гостей укладывают спать в пещере, наполненной странным розовым свечением. Было похоже, что в стены пещеры были вкраплены драгоценные камни.
Оказывается, что достижением Верхнего мира паломничество Акола и Хойгура не заканчивается. Им еще нужно совершить путешествия к четырем священным камням красного, синего, белого и черного цвета в сопровождении проживающего среди бессмертных китайского философа Лао Цзы, который в беседах с юношами-паломниками высказывает мысли, близкие к изложенным в книге «Дао дэ Дзин»: «Много строгих законов в стране – народ беден. Больше законов и приказов – бесчисленны воры и разбойники. Мудрый говорит: я пребываю в бездействии – народ изменяется естественно. Я пребываю в покое – народ изменяется к лучшему. Я ни во что не вмешиваюсь – народ богатеет» [3, с. 36]. Не случайно также на священной горе паломники отправляются к камням. Камень – образ-символ магических сил, заключенных в неодушевленной материи. В похоронных церемониях он символизировал вечную жизнь [9, с. 135–136]. Автор романа выбрал четыре цвета для священных камней, опираясь на традиционную китайскую систему пяти элементов. Сначала паломники отправляются на восток к главному Восточному камню синего цвета. Причем как такового синего и голубого цвета у китайцев не существовало, они сливались с зеленым. Элемент востока – дерево. Синий цвет – символ Неба, с другой стороны, считался приносящим несчастья, т. к. ассоциировался с непостоянной стихией ветра. Затем юноши и мудрец Лао Цзы идут на юг к Красному Камню. Красный цвет соответствует стихии огня, и в наиболее радостные моменты китайцы предпочитают носить одежды именно этого цвета. Третий камень белого цвета располагается на западе. Белому цвету соответствует металл. Запад для китайцев – место, где царят хаос и гибель всего живого, белый цвет в одежде означает траур. В последнюю очередь паломники и философ посещают на севере Черный Камень. Элементом для черного цвета китайцы считают воду. Черный цвет символизирует познание и ученость, углубление в непознанное. Также перечисленные цвета связаны с временами года: синий – с весной, красный – с летом, белый – с осенью, черный – с зимой [8]. Посетив все камни, паломники отправляются домой, причем им на помощь приходит Лао Цзы, который превращается сам и превращает юношей в гусей. Благодаря этому сказочному превращению Акол, Хойгур и Лао Цзы за день преодолевают весь путь до местности Куёх Ары (в переводе с якутского «зеленый остров»), где их ждет бывший правитель Са-ратая с братом. По поводу паломничества юношей к святым местам исследователь Д.Ф. Загидуллина приходит к выводу, что сам поход «слепого мальчика в святые места Куньлуня представляет иное про- чтение романа: как предсказание судьбы кочевых империй, как просьба о прощении за предстоящие набеги хуннов, как молитва за их будущее. Такой поворот заставляет вернуться к началу романа, искать причины предстоящих войн и исчезновения хуннов с исторической арены. И эти причины находятся в нраве, характере, мировоззрении древних тюрков» [1, с. 142].
Подводя некоторые итоги, отметим, что Н.А. Лугинов почти не описывает картин того пространства на границе с Китайской империей, по которой кочуют хуннские племена. Более или менее четкое представление читатель получает о государствах Саратай и Харатай. Саратай, населенный грешниками, воспринимается хуннами как чужая земля, в то время как праведный Харатай – родная. Реальное пространство имеет горизонтальную организацию, фантастическое – вертикальную. Одновременно это и роман о человеке, проживающем на Земле, и о его удивительном «путешествии» к себе истинному, в котором сочетается и светлая и теневая сторона его натуры. Эти стороны человека дают ему возможность проявлять себя в разных жизненных ситуациях и делать выбор, при этом идти дальше, проживая все радости и невзгоды. Автор показывает, что один из героев – Хойгур, - приходит к пониманию, что человек своими мыслями создает все сам в своей жизни, и от того, как он мыслит, зависит его будущее. От каждого человека на Земле зависит будущее его народа, страны. К нему приходит осознание, что он не мелкая сошка, а творец, и каждый человек на Земле – творец. Много удивительного и необычного увидел герой из того, что зачастую находится в невидимом мире. Чтобы попасть в Верхний мир, Аколу и Хойгуру приходится долго и упорно карабкаться ввысь, на вершину мифической горы Куньлунь. Куньлунь китайской мифологии можно сопоставить с греческим Олимпом, населенным богами. По всей видимости, и древние греки, и древние китайцы были уверены, что божества населяют вершины высоких гор. По представлениям китайцев, Куньлунь был древней столицей, окруженной нефритовой стеной, внутри был прекрасный дворец. В романе «Время перемен» на вершине горы живут бессмертные юная мать, образ которой сближается с образом китайской богини Си-ванму, два ее сына и великий философ Лао Цзы. Описаний дворцов в романе нет, разве что ночуют паломники в пещере, стены и потолок которой украшены драгоценностями. Посетив четыре камня синего, красного, белого и черного цветов, символизирующих одновременно и четыре стороны света, и элементы дерева, огня, металла, воды, и четыре времени года, юноши-хунны под влиянием мудрого китайского старца Лао Цзы признают величие китайской философии и культуры и прозревают скорый распад и падение Хуннской империи.
Список литературы Реальное и фантастическое пространство в романе Н. Лугинова «Время перемен»
- Загидуллина Д.Ф. Николай Лугинов - сказитель истории древних тюрков // Национальные литературы в контексте культурной интеграции: сб. ст. Междунар. круглого стола. Казань, 2021. С. 135-143.
- Ильченко Н.М., Маринина Ю.А. Париж как реальное и фантастическое пространство в изображении Э.Т.А. Гофмана и Ш. Бодлера // Научный диалог. 2019. № 7. С. 140-155.
- Лао Цзы. Ле Цзы. Чжуан Цзы. Мудрость древнего Китая. М.: Грантъ, 2000.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2010.
- Лугинов Н.А. Время перемен: роман в повестях. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2018.
- Мифология: Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.
- Полякова Н.Ф. Поэтика фантастического пространства в повестях А.К. Толстого "Упырь" и А.Н. Толстого "Граф Калиостро" // Славянский мир: духовные традиции и современность: сб. материалов Междунар. науч. конф. (г. Тамбов, 23-25 мая 2017 г.). Тамбов: ООО "Принт-Сервис", 2017. С. 120-127.
- Символика цвета в китайской культуре. [Электронный ресурс]. URL: https://color-harmony.livejournal.com/213804. html (дата обращения: 10.11.2021).
- Тресиддер Дж. Словарь символов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.