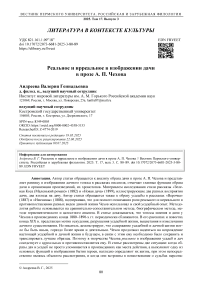Реальное и ирреальное в изображении дачи в прозе А. П. Чехова
Автор: Андреева В.Г.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи обращается к анализу образа дачи в прозе А. П. Чехова и представляет разницу в изображении дачного топоса в рассказах писателя, отмечает главные функции образа дачи в организации произведений, их хронотопов. Материалом исследования стали рассказы «Зеленая Коса (Маленький роман)» (1882) и «Новая дача» (1899), иллюстрирующие два разных восприятия дачи, два взгляда на дачу. Aвтор статьи обращается также к образу усадьбы в рассказах «Верочка» (1887) и «Именины» (1888), подчеркивая, что для полного понимания роли реального и нереального в противопоставлении разных видов дачной жизни Чехов использовал и свой усадебный опыт. Методология работы основывается на сравнительно-сопоставительном методе, биографическом методе, методе герменевтического и целостного анализа. В статье доказывается, что топосы имения и дачи у Чехова в произведениях конца 1880–1890-х гг. периодически сближаются. В его рассказах и повестях конца XIX в. представлен мотив оскудения, разрушения усадебной жизни, выцветания и измельчания дачного существования. Но писатель демонстрирует, что содержание усадебной и дачной жизни могло бы быть иным, гораздо более ярким и деятельным. Чехов продолжал надеяться на возрождение настоящей усадебной и дачной жизни в будущем, в связи с этим ему необходимо было сохранить и транслировать лучшие образцы. Поэтому в творчестве Чехова реальное в изображении усадеб и дач соседствует с ирреальным и противопоставляется ему. В статье рассмотрены две ситуации: когда образы дач и усадеб не просто упоминаются в произведениях как места действия, а выполняют одну из основных функций в изображении бытия героев, наглядно определяют их жизнь, при этом непосредственно являясь объектом рассмотрения, и когда они встроены в повествование о судьбах персонажей, их удачах и несчастиях. В последнем случае анализ поведенческих характеристик героев и осмысление случившегося с ними будет неполным без оценки роли дачи или усадьбы в их жизни. В итоге размышлений автор статьи приходит к выводу, что в контексте творчества Чехова «Зеленая Коса» и «Новая дача» составляют условную парную антитезу, иллюстрирующую, что писатель постепенно всё более разочаровывался в возможности скорого изменения дачной жизни.
А. П. Чехов, дача, усадьба, дачный топос, усадебный топос, реальное, ирреальное, хронотоп, оскудение центра, сознание героя
Короткий адрес: https://sciup.org/147252281
IDR: 147252281 | УДК: 821.161.1.09”18” | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-3-80-89
Текст научной статьи Реальное и ирреальное в изображении дачи в прозе А. П. Чехова
В творчестве А. П. Чехова, которое относится к последней четверти XIX – началу XX в., очень хорошо освещены многие экономические и общественные процессы, характерные для России указанного периода. И нередко для того, чтобы целостно осмыслить произведения писателя, понять основы поведенческих характеристик и поступков его героев, необходимо учитывать место действия рассказов и повестей, атмосферу, в которой оказываются персонажи, ее влияние на них, близость окружающей обстановки к действительности или, наоборот, относительную ее условность.
В статье мы обратимся к образу дачи в прозе А. П. Чехова и представим разницу в изображении дачного топоса, отметим главные функции образа дачи, ключевую ее роль в организации рассказов, их хронотопов. Материалом исследования в статье послужили в основном два произведения А. П. Чехова: «Зеленая Коса (Маленький роман)» (1882) и «Новая дача» (1899), написанные с достаточно большим интервалом во времени (17 лет) и иллюстрирующие два разных восприятия дачи, две полюсных точки зрения на дачную жизнь. Кроме того, в работе, помимо образа дачи, мы обращаемся и к образу усадьбы в некоторых других произведениях А. П. Чехова («Верочка» (1887); «Именины» (1888)) в связи с тем, что для полного понимания роли реального и нереального в противопоставлении дачной жизни Чехов много привлекал и свой собственный усадебный опыт. Для иллюстрации нравственного оскудения хозяев усадеб, несостоятельности перенесения усадебных идеалов в дачную жизнь Чехов активно использовал в своих рассказах и повестях категории реального и ирреального. В задачи статьи входит осмысление специфики использования данных категорий, позволивших Чехову в изображении хронотопов усадьбы и дачи показать завершение значительного периода русской жизни с ее уходящими формами.
Методология исследования основывается на сравнительно-сопоставительном методе (имеется в виду сравнение и сопоставление хронотопов рассказов), биографическом методе (в работе используются факты из биографии писателя, дается указание на много объясняющую жизненную основу рассматриваемых рассказов Чехова), методе герменевтического и целостного анализа (применяются для глубинного осмысления категорий «реальное» и «ирреальное» в ходе изучения образа дачи).
В конце XIX в. усадьба начинает приобретать несколько иное значение, сближаясь в своих функциях с дачей. Помимо потомственных и родовых усадеб разного типа у Чехова нередко идет речь о мелкопоместных или небольших усадьбах, которые используются старыми или новыми хозяевами только в летний период или вообще сдаются ими наподобие дач. М. В. Скороходов очень точно отмечает, что «в конце XIX – начале XX в. наблюдается такое явление, как совмещение на одной территории традиционной русской усадьбы и дачи. Это происходит по следующей причине: владельцы усадеб сдают часть своих помещений (например, флигели или отдельные этажи, комнаты главного дома) дачникам. В результате появляется не встречавшийся ранее феномен – пересечение в рамках одного пространства двух вариантов летнего времяпрепровождения» [Скороходов 2020: 47].
Наши рассуждения об образе дачи у Чехова необходимо начать с некоторых уточнений об отношении самого писателя к усадьбе и даче, об их своеобразном и отчасти вынужденном сближении Чеховым, связанном с обстоятельствами жизни писателя и историческими условиями.
С. Ловелл отмечает, что Чехов, во многом как представитель новой интеллигенции, разделял предпочтение усадьбы перед дачей, характерное для многих образованных людей того времени [Lovell 2002: 71]. Дело в том, что усадьба воспринималась как дом и земля (участок), требующие от владельцев постоянного присмотра, ухода. Даже если речь шла о съеме усадьбы (как правило, долговременном) или приобретении ее, подразумевались соответствующие усилия владельцев или жильцов в уходе за имуществом, садом, прилегающими территориями. А дача понималась как временное пристанище, место проведения летнего отдыха, организации досуга во время выездов из города (на лето или на выходные). «Для людей из окружения Чехова дача определялась не столько размером или конструкцией дома, или планировкой его территории, сколько тем, как она использовалась его жильцами», – продолжает С. Ловелл. Исследова- тель подчеркивает, что усадьба самого Чехова, превращенная предыдущим владельцем фактически в дачу, была возвращена писателем и его близкими в статус усадьбы, однако продолжала соотноситься с дачей и самим Чеховым, и его современниками: «Например, усадьба Мелихово стала более “дачной” после периода проживания ее предыдущего владельца, театрального художника Н. П. Сорохтина, который установил излишне затейливое резное крыльцо и пренебрег землей. Семья Чеховых вернула Мелихово к его функции усадьбы, посадив деревья, проведя некосметический ремонт и очень серьезно отнесясь к своей роли как владельцев-управляющих (хозяев). Но даже в этом случае их образ жизни сохранял что-то от дачи, поскольку они принимали постоянный поток гостей из Москвы, и Мелихово стало центром неформального общения, которое уже тогда оказалось синонимом дачи» [ibid.: 72].
А. П. Кузичева убедительно показала, какие трудности пришлось пережить Чехову и его близким при восстановлении Мелихово и его поддержании в должном виде: «Даже без надежды на доход имение требовало внимания. Большие угодья вынуждали заниматься, как говорил Чехов, “покосами, попасами, прогонами и выгонами”, в которых он ничего не понимал» [Кузи-чева 2011: 185]. В пореформенных условиях (после отмены крепостного права) усадьбы и имения в течение почти двух десятилетий продолжали жить по-старому, помещики по-прежнему использовали труд крестьян, постепенно начиная привлекать вольнонаемный труд. В ситуации оскудения центра, в последние десять-пятнадцать лет XIX в., процесс дворянского обнищания достигает своего размаха, усадьбы (особенно мелкопоместные) продаются и перепродаются, их благоустройство становится непосредственной задачей конкретных хозяев, которые часто сталкивались с проблемой отсутствия рабочих рук, невозможности найти людей для проведения качественных восстановительных работ в доме и тем более грамотных земледельческих работ. А. П. Кузичева отметила, что приобретенное Мелихово доставило писателю много проблем: «Уже с первых дней в письмах прорывалось признание, что такое имение обременительно со всех точек зрения. Надо бы поменьше и где-нибудь в теплых краях, в гоголевских местах. Чехов не предполагал заниматься сенокосом, молотьбой, уборкой картофеля, озимыми. Он менял скорее место жительства, чем образ жизни. А получалось наоборот. И он почувствовал это сразу» [там же: 179].
Топосы имения и дачи у Чехова в произведениях конца 1880–1890-х гг. периодически сближаются, особенно применительно к центральным губерниям России, поскольку речь идет уже, как правило, о небольших владениях. Примечательно, что в маленькой пародии 1880 г. «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.» Чехов отмечает в числе других предметов, явлений и героев «Подмосковную дачу и заложенное имение на юге» (Чехов 1974–1983, т. 1: 17). На самом деле, если в далеких губерниях еще сохранялись обустроенные и процветающие имения, то применительно к центру России речь шла уже о домах с участками на одну семью и т. п.
В рассказах и повестях Чехова конца XIX в. представлен мотив оскудения, разрушения усадебной жизни, выцветания и измельчания дачного существования. Но Чехов мастерски показывает, что содержание усадебной и дачной жизни могло бы быть иным, гораздо более ярким и деятельным (или было когда-то таким). Как справедливо отметила П. Рузвельт, «начиная с Пушкина, мотовство дворян и дурное управление имением становятся литературными стереотипами, которые подготавливают канву для изображения упадка и гибели дворянской усадебной культуры у Антона Чехова» [Рузвельт 2008: 342]. Чехов констатирует проблемы действительной жизни, при этом предлагая читателю иные образы, представляя своеобразные полюса. В ситуации, когда «культурные функции “дворянского гнезда” все больше стала принимать на себя именно дача» [Щукин 2007: 370], Чехов показал, что процесс передачи этих культурных функций, к сожалению, не может происходить без потерь, прежде всего в силу общественных настроений и тенденций конца XIX – начала XX в. По всей видимости, писатель продолжал надеяться на возрождение настоящей усадебной и дачной жизни в будущем, в связи с этим ему необходимо было сохранить и транслировать лучшие образцы. Именно поэтому в творчестве Чехова реальное в изображении усадеб и дач соседствует с ирреальным и противопоставляется ему. Интересно также, что в некоторых рассказах Чехова в основании этих антитез реального и ирреального находятся личные впечатления, переживания или воспоминания автора.
Образы дач и усадеб в произведениях, во-первых, могут выполнять одну из основных функций в изображении бытия героев, очень наглядно определять и формировать их жизнь, при этом непосредственно являясь объектом рассмотрения, во-вторых, они могут быть «незаметно» встроены в повествование о судьбах персонажей, их удачах и несчастиях. В последнем случае анализ поведенческих характеристик героев и осмысление случившегося с ними будет неполным без оценки роли дачи или усадьбы в их жизни .
Приведем сначала примеры второй ситуации. Обратимся к рассказу Чехова «Верочка», который был опубликован в «Новом времени» 21 февраля 1887 г. Комментаторы рассказа в полном собрании сочинений писателя отмечают связь описанной истории с реальными событиями и людьми: «М. П. Чехов утверждал, что “описанный в “Верочке” сад при лунном свете с переползавшими через него клочьями тумана – это сад в Бабкине”». «“Городок” – очевидно, Воскресенск, находившийся в пяти верстах от Бабкина. Детали одежды героя воскрешают в памяти облик Чехова той поры… Молодая компания в рассказе напоминает компанию, образовавшуюся вокруг П. А. Архангельского, заведовавшего Чикинской больницей» (Чехов 1974–1983, т. 6: 636–637). Рассказ Чехова на первых порах не был понят критикой, рецензенты сосредоточивали внимание на сюжете и героях, не оценивая место действия рассказа и степень реальности и условности представленного. Обсуждалось поведение главного героя, Ивана Алексеевича Огнева, его неумелое обращение с Верочкой, причины его сухости и бесчувственности. По нашему мнению, важно не то, были ли женщины до Верочки у Огнева (об этом рассуждали критики), – предельно значима обстановка, в которой оказывается герой, влияние ее на Верочку и Огнева. Перед нами даже не две, а три разных «среды», реальности, которые в совокупности образуют сложный хронотоп рассказа.
Первая реальность показана автором в начале и в финале рассказа, это скучная и серая действительность, с мелкими рабочими делами и заботами, в которой живет Огнев. С другой, поэтической и упоительной реальностью далекого и счастливого лета ее связывают вещи героя, которые он ранее носил и которые теперь валяются в пыли под кроватью, и, конечно, воспоминания. В рассказе именно память Огнева воскрешает лучшие мгновения. Т. Ю. Ильюхина отметила, что «свойства памяти, оформление ею границ настоящего и прошлого, способность человека удерживать реальность и забывать – и есть сюжет произведения» [Ильюхина 2019: 76]. Исследовательница подчеркивает, что «герой остро чувствует скорость превращения настоящего в прошлое», «ощущает саму границу перехода настоящего в прошлое» [там же: 78]. Однако у внимательного читателя рассказа возникает резонный вопрос: как тонко чувствующий время и всё происходящее герой мог так странно вести себя в отношении с Верой? Т. Ю. Ильюхина полагает, что в рассказе «простой выход за калитку сада у дома, в котором он бывал едва ли не каждый день пребывания в N-ском уезде», как раз ощущается героем как слом настоящего и прошлого [там же: 78]. Отвечая на наш же вопрос, отметим, что прошлое, воспоминание об усадебной жизни для Огнева, в свою очередь, также делится на реальное и ирреальное. Реальное в воспоминаниях – это не один вечер, а всё-таки продолжительное и наполненное событиями лето, на протяжении которого главный герой бывал почти каждый день у Кузнецовых, «привык как к родным, к старику, к его дочери, к прислуге, изучил до тонкостей весь дом, уютную террасу, изгибы аллей, силуэты деревьев над кухней и баней…» (Чехов 1974–1983, т. 6: 70). Ирреальное в воспоминаниях – это вечер в саду Кузнецовых и объяснение с Верой Гавриловной. Не случайно в рассказе речь идет сразу о нескольких дверях, отделяющих миры друг от друга: сначала о стеклянной двери, из которой Огнев выходит на террасу, а далее – о калитке из сада, выводящей героев на дорогу, идущую к лесу.
Усадебное прошлое, помощь добрых людей, их гостеприимство видятся интеллигентному Огневу редкостью, но всё же они вписываются в реальную жизнь. Парадокс этого героя в том, что он, гибкий и думающий, способен понять и себя самого, и женщину, но не способен любить . Можно предположить, что в вечер объяснения с Верой самой природой и жизнью для Огнева были созданы особые нереальные условия, возможные только вдалеке от города, в усадьбе, должные повлиять на героя : «…клочья тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза, ходили друг за дружкой поперек аллей. Луна стояла высоко над садом, а ниже ее куда-то на восток неслись прозрачные туманные пятна. Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов и бродивших белых теней, а Огнев, наблюдавший туман в лунный августовский вечер чуть ли не первый раз в жизни, думал, что он видит не природу, а декорацию, где неумелые пиротехники, желая осветить сад белым бенгальским огнем, засели под кусты и вместе со светом напустили в воздух и белого дыма» (там же: 71). Такие условия даны Огневу, чтобы он смог подняться над самим собой, выйти на новую ступень чувств и ощущения жизни . Примечательно, что в первые моменты приезда в имение Огнев был ближе к прозрению: «Господи, – удивлялся тогда Огнев, – неужели тут всегда дышат таким воздухом, или это так пахнет только сегодня, ради моего приезда?» (там же: 74).
Д. Рейфилд отметил, что Чехов в «Верочке» устанавливает модель сада как неудавшегося доверия для неудавшихся любовников, модель, которая сохраняется в его творчестве на протяжении примерно пятнадцати лет [Rayfield 1989: 534]. По нашему мнению, также принципиально, что усадебный сад в рассказе предстает как ме- сто воплощения загадочного, волшебного и средство для перехода героя, которого, к сожалению, не происходит. Можно сказать, что всё лето для Огнева было подготовкой к одному вечеру ключевой проверки.
В рассказе «Именины», опубликованном впервые в «Северном вестнике» за 1888 г. и далее неоднократно переделываемом Чеховым, для понимания героев и происходящего также важно учитывать сближение и расхождение реального и ирреального. Последнее, как и в рассказе «Верочка», представлено очень эпизодически и мимолетно, в рассказе оно так же, как и в жизни, неуловимо. В «Именинах» показана ситуация, в которой счастье убегает, мечты прогоняются реальностью с ее шумом и обыденностью. Чехов демонстрирует, что счастье на даче или в усадьбе оказывается несбыточным, если у обитателей ее нет настоящей мечты, связанной с преображением жизни, и пути к этой мечте. Т. М. До Егито, рассматривая хронотоп уездной усадьбы, передает важность мистического мира, возникающего при неудачных родах Ольги Михайловны, когда ребенок умирает: «Наступает кризисная точка, в которой созданный хронотоп “трещит по швам” и рушится. На его месте возникает иной, мистический. Открытие царских врат – это еще один райский образ – портала в Царствие Небесное, куда, очевидно, отправляется душа так и не рожденного, обреченного маленького человечка» [До Егито 2020: 33]. Автор статьи видит проблему в том, что герои рассказа, «будучи детьми прогресса и вкусив горькие плоды секуляризации, в день именин не способны почувствовать праздник, увидеть его небесную проекцию» [там же].
По нашему мнению, дело в рассказе Чехова не столько даже в религиозных мотивах, сколько в неспособности главной героини, которая планировала быть матерью, сосредоточиться на том настоящем и ирреальном (по сравнению с обыденной действительностью) переживании и ощущении, которое предлагала ей жизнь и которое Ольга Михайловна могла бы сохранить. В «Именинах» ирреальное (которое должно было стать реальностью при правильном поведении героев) приоткрывается читателю в самом начале рассказа. Примечательно, что и в этом произведении к «новому», более высокому уровню ощущения жизни героиня приближается в саду, в одиночестве бродя по аллеям и тропинкам: «Она привыкла к тому, что эти мысли приходили к ней, когда она с большой аллеи сворачивала влево на узкую тропинку; тут в густой тени слив и вишен сухие ветки царапали ей плечи и шею, паутина садилась на лицо, а в мыслях вырастал образ маленького человечка неопределенного пола, с не- ясными чертами, и начинало казаться, что не паутина ласково щекочет лицо и шею, а этот человечек…» (Чехов 1974–1983, т. 7: 167).
Как мы видим по двум упомянутым нами рассказам Чехова, реальное и ирреальное в усадебной жизни не случайно противопоставлялись писателем: Чехов был убежден, что для сохранения содержания жизни и его реализации в новых условиях нужны были особенные усилия героев , понимание не просто эволюции и динамики действительного, но осознание ими сложного духовного роста, который обусловливает ценность личности.
Теперь перейдем к образам дач, играющим в рассказах важную роль, определяющим и формирующим хронотоп. В отличие от усадебного топоса, в котором логично совмещались реальность и представления, желания, мечты, в рассказах, где основным местом действия является дача, реальное и ирреальное не сочетаются в одном произведении, а составляют основу каждого художественного мира: как мы уже отметили, причиной этому стали новые жизненные условия и понимание Чеховым образа новой дачи.
В свете рассматриваемой нами темы символично, что «Зеленая Коса» (1882) имеет подзаголовок «Маленький роман». Он был опубликован в «Литературном приложении к журналу “Москва”» в 1882 г. Вновь сделаем акцент на связи произведения с жизнью писателя. В комментариях к рассказу отмечено, что среди персонажей «Маленького романа» присутствуют реальные лица, что Чехов сохранил их подлинные имена. Художник Чехов – это Н. П. Чехов (1858– 1889). Поручик-артиллерист Егоров – это Е. П. Егоров, который был близким приятелем братьев Чеховых. Студент-медик Коробов – это Н. И. Коробов (1860–1919) (Чехов 1974–1983, т. 1: 583). Более того, повествователь рассказа персонифицирован, сделан участником событий: можно подумать, что этот факт привносит элемент реального в произведение. Однако на деле получается совсем наоборот, уже первое предложение «маленького романа» переводит нас в план исключительно субъективного. По стилю оно больше напоминает воспоминания, строчку из мемуаров: «На берегу Черного моря, на местечке, которое в моем дневнике и в дневниках моих героев и героинь значится “Зеленой Косой”, стоит прелестная дача» (там же: 159). Интересно, что далее автор предлагает читателям две точки зрения на дачу – архитектора и поэта. Они могли бы быть реальностью и ирреальностью в рассказе, если бы первая позиция оказалась сразу отброшена. В «Зеленой Косе» изображается южная дача на окраинах Российской империи глазами поэта, видящего и ценящего прекрасное: «Эта дача стоит на горе; вокруг дачи густой-прегустой сад с аллеями, фонтанчиками, оранжереями, а внизу, под горой – суровое голубое море... Воздух, сквозь который то и дело пробегает влажный кокетливый ветерок, всевозможные птичьи голоса, вечно ясное небо, прозрачная вода – чудное местечко!» (там же: 159). Автор дает читателю понять, что предлагаемое место, и, более того, описание летней жизни приезжающих гостей, – это не типичное для русской дачи конца XIX в. состояние. Типичное будет изображено в «Новой даче» (1899), а тут дана идиллия. «Рассказ повествующего “я” окрашен лирической теплотой, симпатией к героям, легкой ностальгией по идиллическому миру Зеленой косы, рассказчик здесь слит с изображаемым. Не только особенности дачной жизни – беззаботные приключения и увлечения, но и повествовательная манера придают этой истории особый идиллический колорит», – пишет И. В. Алехина [Алехина 2015: 104].
Несмотря на тот факт, что история с Олей и молодым князем Чайхидзевым в своей глупости и неоригинальности, с натянутостью и странностью поведения героев более похожа на анекдот, именно она, скорее всего, могла бы отчасти связать изображение жизни хозяев и гостей дачи с реальностью. На самом деле, в «Зеленой косе» мы как бы улавливаем условные сигналы нереального мира, всё несколько раз перевернуто, чтобы читатель не отличил – перед нами как будто многократное отражение: «…отставной поручик Егоров вертелся пред глазами, а Чайхидзев с каждым годом в ее глазах становился всё глупее и глупее...» (Чехов 1974–1983, т. 1: 164).
Небольшая, но оригинальная дача несколько раз сравнивается Чеховым со средневековым замком. Внутренние столкновения и сопоставления в этом произведении нельзя воспринимать всерьез, темные краски и события не могут коснуться «Зеленой Косы» уже потому, что с самого начала это радостный и упоительный рассказ о даче, ее обитателях и гостях. А. Н. Лапова подчеркивает принцип каламбурности, принцип неточности в описании дачи и героев, отмечая, что «поэтическое восприятие омрачается прозой жизни», обосновывая появление строгой и капризной хозяйки-княгини, как ее характеризует автор [Лапова 2011: 414]. Продолжая свою мысль, исследователь пишет: «Тем не менее, Зеленая коса для дачников представляется земным раем, главной особенностью которого является его музыкальность (плеск моря и шепот деревьев, сопрано Ольги, теноры и басы дачников и т. д.)» [там же]. На наш взгляд, в данном случае необходима поправка: «тем не менее» нужно заменить на «тем более», поняв, что образ княги- ни-хозяйки – лишь элемент занимательного рассказа: строгость и капризы хозяйки не доставляли постояльцам неудобства, они стали свойством этой «нереальной» дачной жизни, которое придавало ей своеобразие.
Несмотря на тот факт, что сад теперь уже не был так необходим Чехову, как в тех рассказах, где автором сталкивалось реальное и ирреальное, писатель и тут отправляет влюбленных в беседку на природе. Локация была призвана усилить и подчеркнуть идиллию объяснения пьяного Егорова и взволнованной его «тяжелым», «предсмертным» состоянием Оли. А. Н. Лапова, с нашей точки зрения, верно объясняет появление садовых сцен реализацией древнего сюжета: «Сюжетная история строится на обыгрывании архетипического сюжета и оппозиции жи-вое/мертвое. Розыгрыш Ольги превращается в настоящее театральное представление, в котором каждый играет свою роль. Рассказчик становится проводником, ведущим ее в глубину сада как будто в потусторонний мир, в мир мертвых…» [там же: 417].
Чехов намеренно играет с читателем, показывая, как Егоров боится, что Оля почувствует исходящий от него водочный запах, а княгиня в это время выходит из себя и нюхает спирт. В рассказе немало сказочного и идиллического, тон его сразу дает читателю понимание того, что в этом ирреальном или идилличном мире не может случиться ничего плохого. К. С. Оверина пишет, что «все “страшные” происшествия не имеют для героев особенных последствий. Любая серьезная ситуация описывается повествователем так, что кажется нелепой и комичной. В этом мире не существует трагедий: герои и повествователь в своем восприятии действительности легко переключаются между жанровыми установками, обеспечивающими им гармоничное видение мира. <…> Ничто здесь не имеет решительных последствий, релевантных для героев (или, по крайней мере, для рассказчика), все несчастья могут быть обратимы, равновесие и гармония всегда восстанавливаются» [Оверина 2014: 141]. Примечательно, что Чехов закольцовывает «счастье» героев, которые отдыхают на прелестной даче каждое лето, причем если сам отпуск длится с мая по сентябрь, то в остальное время о нем вспоминают, а письма с напоминаниями о новом сезоне от княгини и Оли герои получают уже в марте.
Совершенно иное впечатление производит рассказ «Новая дача», который был опубликован в «Русских ведомостях» за 1899 г. В этом небольшом рассказе повторяются столкновения народа с инженером и его семьей, переселившимися на вновь построенную усадьбу, которую они назвали Новая дача. В начале статьи мы отмечали сближение понятий «усадьба» и «дача» применительно к концу XIX в., в рассматриваемом рассказе Чехов намеренно подчеркивает их близость. Исследователи констатируют, что рассказ имеет и биографический подтекст. В комментариях к рассказу высказано предположение о том, что «одним из толчков к написанию рассказа послужило письмо к Чехову пианистки А. А. Похлебиной» о том, что она никак не может полюбить дикий и невежественный народ (Чехов 1974–1983, т. 10: 416). Все исследователи также сходятся во мнении, что в рассказе отразился опыт общения Чехова с мелиховскими мужиками. А. П. Кузичева отметила, что тяжелые впечатления мелиховской жизни не забывались Чеховым: «Мелиховская жизнь, кажется, не уходила из сознания. Когда-то увиденное “жалкой весной” 1895 года – дряхлая мать била палкой старого сына, залезшего в пруд, – всплыло в эпизоде из рассказа “Новая дача”: отец и сын, оба пьяные, с бессмысленными глазами, бьют друг друга палками» [Кузичева 2011: 351].
Чехов систематично и последовательно насыщает рассказ удручающими обывательскими подробностями, далекими от иллюзий, максимально приземленными и соотносимыми с русской действительностью конца XIX в. В произведении передана не просто ограниченность мужиков – показаны многие пороки, субъективный смысл, вкладываемый народом в причинение неудобств инженеру и его семье. Перед нами социально обусловленный тип агрессии. Зависть, неспособность понять светлые движения души инженера и его жены перетекают в открытую злость, ненависть и противостояние. Залогом непридуманности, реальности рассказа о Новой даче и интеллигентах, вынужденных сбегать от жизни с народом, являются несколько различных и явно увиденных Чеховым в жизни и воплощенных в рассказе типов народного извращенного сознания. О. А. Богданова отметила, что в основе рассказа лежит «глубинный конфликт семьи приезжего инженера с местными крестьянами» [Богданова 2019: 145]. На самом деле, глубинный конфликт вряд ли можно придумать полностью, истинно драматические конфликты всегда имеют под собой реальную основу. О. А. Богданова отмечает интересное наблюдение за домом инженера, который по мере движения рассказа превращается в крепость: «И хотя милой Елене Ивановне нравилось в Обручанове все: и река, и лес, и деревня, – она была вынуждена жить на своей даче как в осажденной крепости и в конце концов продать ее и уехать. Не случайно в рассказе нет ни одного упоминания о раскрытом в их доме окне» [там же]. Чехов пока- зывает самого инженера и членов его семьи как людей деятельных и порядочных, настроенных на взаимодействие с народом. Ю. В. Доманский, рассуждая о номинациях «имение» и «усадьба» в пьесе Чехова «Вишневый сад», отмечает, что «почти во всех контекстах употребления слова “имение” в репликах в “Вишневом саде”, в тринадцати случаях из четырнадцати (исключение – реплика Лопахина, где тот излагает проект спасения имения через сдачу участков в аренду под дачи) речь идет о продаже и покупке имения, что реализуется даже на сугубо лексическом уровне через присутствие в ближайших контекстах слов “продавать”, “продано”, “купить”, “продается”, “продадут”, “купил”, “покупка”» [Доманский 2021: 50]. Обратим внимание на тот факт, что инженер продает Новую дачу вынужденно, что он приложил немало усилий для того, чтобы перенести усадебные традиции на дачу. Однако писатель демонстрирует, что огромный разрыв между разными классами, народная неграмотность, неспособность правительства вмешаться в общественно-экономические процессы рубежа веков привели к тому, что хозяевами дач становились не люди, для которых дача могла стать домом, местом семейной памяти, а преимущественно любители легкого отдыха на природе. Реальность в «Новой даче» не радует и демонстрирует общее нравственное оскудение.
Таким образом, в контексте творчества Чехова «Зеленую Косу» и «Новую дачу» можно противопоставить, увидеть в этих рассказах парную антитезу, иллюстрирующую, что писатель постепенно всё более разочаровывался в возможности скорого изменения дачной жизни – наполнения ее настоящими и светлыми красками, содержанием. В большинстве других рассказов Чехова, связанных с дачами («Дачница» (1884), «Дачники» (1885), «На Даче» (1886)), писатель сосредоточивает внимание на обитателях дач, их характерах, искренности, бытовых моментах, однако именно в «Зеленой косе» и «Новой даче» Чехов останавливается на проблемах усадебной и дачной форм уходящей и грядущей русской жизни. Категории реальное и ирреальное у Чехова позволяют сделать вывод о том, что при изображении усадеб в рассказах 1880-х гг. писатель еще надеялся на возможное грядущее возрождение усадебной культуры, пусть и в каких-то других формах. Показывая заблуждающихся и ошибающихся героев, Чехов совмещал в рассказах упущенные мечты, фантазии, задачи героев, возможные сценарии их жизни и реальное положение вещей, оказывающееся безрадостным, отмечая, что всё зависит от выбора героя и степени осознанности его поступков. Несмотря на тот факт, что дача стала наследницей усадебной культуры, Чехов показал невозможность сохранения и передачи прежних образцов жизни во многом за счет категорий реальное и ирреальное. Чехов демонстрирует, что счастливая жизнь на даче становится редким исключением, она ирреальна, в условиях рубежа веков она оказывается возможной лишь на далекой абстрактной Зеленой Косе, а не в центре России. Реальность же такова, что в новых условиях дача оказывается не хранительницей усадебного наследия, а местом временного пребывания, летнего отдыха, с которым никак не связываются семейные ценности и традиции.