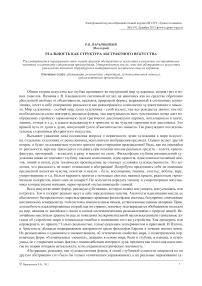Реальность как структура абстрактного искусства
Автор: Паранюшкин Рудольф Васильевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 5 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается неразрывная связь между формой абстрактного искусства и реальным ассоциативным чувством в контексте содержания произведения. Утверждается мысль, что для абстрактного искусства реальность является структурой и материальным носителем смысла картины.
Абстракция, реальность, структура, художественный замысел, художественное произведение
Короткий адрес: https://sciup.org/14821810
IDR: 14821810
Текст научной статьи Реальность как структура абстрактного искусства
Общие теории искусства все глубже проникают во внутренний мир художника, творца грез и новых смыслов. Начиная с В. Кандинского системный взгляд на живопись как на средство обретения абсолютной свободы от объективности, предмета, природной формы, выраженный в спонтанных композициях, несет в себе отвержение реальности как равноправного компонента художественного замысла. Мир художника – особый мир, душа художника – свой космос, там все рождается заново, там нет необходимости слепо повторять реальные формы, там виртуальность всех чувственных начал дает воображению стройную гармоничную (или трагически диссонансную) картину, воплощенную в цвете, линиях, точках и т.д., в идеале вызывающую в зрителях те же чувства гармонии или диссонанса. Это прямой путь от души к душе, минующий тупое объяснительство замысла. Так рассуждают последовательные сторонники абстрактного искусства.
Вызывает уважение сама постановка вопроса о первичности души художника в мире искусства, отделение художника от ремесленника, исполнителя изображения предмета. Однако встает другой вопрос: а будет ли адекватным чувство зрителя при созерцании произведения? Ведь, как ни отрекайся от реальности, картину приходится создавать при помощи вполне реальных средств – холста, красок, фактуры, пропорций, – вставлять в раму и вешать на стену. Философские глубины размышлений художника никак не заменяют глубину законов композиции, идею красоты, идею взаимоотношений цветов, линий и пятен, если технически произведение не отвечает условиям художественности. Это иллюзия, что реальность не имеет отношения к абстракции! Попробуем представить себе не имеющие предметной аналогии чувства, понятия и мысли – боль, восхищение, тишину, счастье, любовь, веру, умиротворение и т.д. Нельзя выразить трагизм с помощью светлых нежных красок, радостным гармоничным колоритом, никто нам не поверит! Не получится передать тишину и умиротворение мятущимися контрастными мазками, черно-красной «вспыхивающей» гаммой.
Все в искусстве имеет форму, реальную субстанцию, которую можно или увидеть, или услышать, или потрогать. Тон и колорит реально несут в себе определенные чувства. Апологеты идеализации мысли, ее абсолютного беспредметного мира выстраивают красивые философские системы, безупречно отвечающие циклическому совершенству этой системы, имея исходные начала, установленные самими авторами. Правдоподобность идеализированных теорий, как ни странно, поначалу подтверждается обобщенным взглядом на мир, начиная от житейского опыта и кончая систематическими размышлениями о природе вещей. Величайшие мыслители древности еще до появления экспериментальной науки высказывали гениальные догадки об устройстве мира и гениальные ошибки в понимании того же устройства. Как проверить или опровергнуть их правоту? Только реальностью, только реальным экспериментом и практикой. И Платон, и Аристотель обладали непререкаемым авторитетом среди философов Европы в течение многих веков. Их размышления о единичном и множественном, об эстетических свойствах мира, о геометрических первоначалах форм, об изначальных элементах, лежащих в основе мира, были и глубоки, и изящны, и остроумны, но с открытием новых фактов о взаимодействии материи и духа, предмета как тела и как идеи многие их теории потеряли актуальность, хотя сохранили историческую значимость.
Абстракция, рождаясь как художественная форма, в своей глубинной сущности опирается не на другую абстракцию (это было бы только техническим упражнением), а на реальные переживания ху- дожника, живущего в реальном мире. Если художник уходит в свои творческие фантазии, все равно он соотносит их со своим реально существующим внутренним миром, сформированным жизнью. Геометрия супрематизма К. Малевича и П. Мондриана сначала выражается в реальной форме, а уж потом воздействует на зрителя глубинными ассоциациями и аллюзиями. Черный квадрат как картина не мог появиться из ниоткуда. Автор, размышляя о современной ему действительности, старался отразить реальный мир декадентского распада, ощущая потерю ориентиров и идеалов. Жизнь не обойдешь, у нее нет абстрактных границ и форм (пока она жизнь), предметный мир существует независимо от художника и в то же время он неотъемлем от художника именно потому, что сам художник с его душой выступает «предметом».
Реальность является структурой мира, отвечая на вопрос «Это существует?». Все сущее во Вселенной и есть реальность, включая сознание и его продукт – мысль. Если в реальности «этого» нет, значит «это» не может быть предметом искусства. Даже виртуальная, воображаемая реальность все равно есть реальность, потому что отражается во вполне материальном объекте – мозге, и в процессе этого отражения мозг соответственно перестраивается. Психологи и физиологи утверждают, что любые фантазии и воображаемые сущности основываются на том, с чем человек хотя бы раз сталкивался в течение жизни. «Принеси то, не знаю что» определяет, в сущности, невозможность выполнения задачи, т.к. ни заказчик, ни исполнитель не представляют себе реального объекта поиска и при встрече с ним просто не «узнают» его. Чего не бывает, того не покажешь. Художники, имеющие дело с абстракцией, нашли, казалось бы, гениальный ход в борьбе с реальностью: они называют картины «Композиция №5», «Опус 288» – и никаких чувств. Однако опусы и композиции непостижимым образом, как и классические картины, разделяются на сюжеты и направления, становятся популярными или рядовыми. Почему и как это происходит? Почему «душа горит, и сердце просит» в одних работах проявляется, а в других – нет? Потому что художник или горел чувствами, или равнодушно раскрашивал, потому что он обращается к зрителю, а зритель ведет диалог с ним во вполне определенной среде. Абстрактные картины удивительно конкретны! Пресловутый «Черный квадрат» витал в воздухе, зритель его чувствовал нутром, но не мог выразить, а Малевич решился на это. И ключевым для знаменитой картины явилось слово черный – как символ тайны, драмы, бездонности, душевного мрака и конца (или начала) мира. Цвет оказался прямым выразителем чувств и нес в себе философию. Попробовал бы Малевич прославиться с синим или зеленым квадратом! Его попытки на фоне неожиданного успеха черного квадрата расширить диапазон цвета хотя бы до красного не увенчались успехом у зрителей. Ведь у черного цвета издревле уже была своя репутация: вспомним черные дни, черную пятницу, черный юмор, черного человека, черную душу, черную судьбу, черную дыру, черный пиар и т.д. Получилась абстрактная реальность, попавшая в самую точку художественного процесса начала XX в.
Художники любят спорить. Особенно яростны споры между реалистами и абстракционистами. У каждого находятся аргументы в свою пользу и контраргументы на выпады оппонента. Однако и те, и другие почему-то подразумевают под реальностью только материю, тогда как реальность шире материи, она включает и сознание, дух. Именно потому идеи и замыслы, воплощенные в любой форме, являются реальностью. Ведь если сравнивать художественную ценность «Войны и мира» Л.Н. Толстого и какой-нибудь многотомный опус графомана Сидорова (фамилия условна), то не буквы, бумага и переплет, а вложенная в текст мысль, эта нематериальная субстанция, несущая всю художественную ценность произведения, реально делает одну книгу бессмертным достоянием человечества, а другую – пустым упражнением в писательстве. Всех сбивает с толку извечный спор материалистов и идеалистов о том, что первично – материя или сознание. Отсюда дискуссии об абсолюте, смысле и происхождении Вселенной, об энергии и информации. Конечно, изобразительное искусство как видимая субстанция не может игнорировать эти споры, являясь одновременно носителем и материальных, и духовных ценностей.
Есть глубина знания, а есть глубина действительности. Знание в принципе не может исчерпать все реальности Вселенной, потому что представляет собой продукт человеческого разума и практики, а человечество имеет вполне обозримые пределы существования, время его не бесконечно. Есть вещи, не- доказуемые именно по причине недостижимой глубины вопроса, и тогда остается либо верить, либо спорить, защищая свою позицию. Реалисты и абстракционисты оказались в противоположных углах ринга потому, что у них есть обоснованные (для себя) начала мира, на которых строится вся концепция учения. Рамки статьи не позволяют углубиться в сравнительный анализ обоснованности их взглядов, но можно сформулировать мысли по сути самого спора. Материя и дух в искусстве неотделимы друг от друга, и в реализме, и в абстракционизме конечным продуктом картины являются впечатление и сердечный отклик зрителя на произведение. Это дух, сознание, информация. Любое произведение изобразительного искусства является материальным носителем идеи художника. Это материя, энергия. Реальность духа и материи, информации и энергии в любой картине доказывать не надо, вопрос лишь в том, каких компонентов этой реальности больше в реализме и в абстракции.
Сначала об «обычной» картине. Классическим примером соединения материи и духа может служить пейзаж И. Левитана «Над вечным покоем». Здесь вся композиция строится как величественный гимн природной стихии, своим грандиозным напряжением покоя уносящей человека от суетного быта, мелких повседневных забот к пониманию космических масштабов земного бытия. В картине все – материя. Могучая река, затерянный остров под тревожным небом, еле заметная точка одинокого погоста – это написано реально, узнаваемо, без преувеличений и искажений. Реальность сама по себе представляет художественную ценность: передачей пространства, предметностью, плотностью письма. Она, завершенная внутри себя, является только толчком, поводом для глубоких переживаний и философствования.
Теперь об абстракции. Есть у В. Кандинского полотно под названием «Весна». В ней нет ни единого «настоящего» предмета, нет даже намека на реальный пейзаж, но общий строй колорита, активная светоносность мазков кисти, диагональное направление пятен несут внутреннюю энергию обновления, зарождения, весны. Реальности вроде бы нет, а общее впечатление весны передается. Реальность здесь выступает в виде структуры, соединения всех элементов абстрактной картины в оптимистический и радостный мотив, который зарождается в душе человека, вполне способного адекватно ответить самому себе на вопрос: а какие признаки имеет весна? «Весна» Кандинского несет в себе больше информации, чем «картинности», но структура картины все равно существует. Здесь реальность в отличие от «Вечного покоя» И. Левитана не замкнута в себе, не самодостаточна, а представляет собой лишь отголоски жизненного опыта художника и зрителя. Сравнивать силу воздействия картин Левитана и Кандинского не имеет смысла, потому что исток этой силы у каждого художника свой, он находится в разных плоскостях познания: предметной и умозрительной. У Левитана вначале чувство, а затем рожденная им мысль, а у Кандинского вначале мысль, а потом рожденное ею чувство. Смысл искусства в чувстве, а оно может быть выражено и непосредственно (через сердце) и опосредованно (через разум).
Таким образом, соприкосновение смыслов для изобразительного искусства любых форм и направлений – в чувстве. Это не примирение, а общая граница, допущение и уважение инакомыслия. У искусства все равно общий глубинный источник – красота. Вещь реальная и абстрактная.