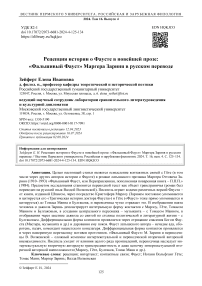Рецепция истории о Фаусте в новейшей прозе: "Фальшивый Фауст" Маргера Зариня в русском переводе
Автор: Зейферт Е.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
Целью настоящей статьи является осмысление контактных связей с Гёте (в том числе через других авторов истории о Фаусте) в романе латышского прозаика Маргера Оттовича Зариня (1910-1993) «Фальшивый Фауст, или Переправленная, пополненная поваренная книга - П.П.П.» (1984). Предметом исследования становится переводной текст как объект трансграничья (роман был переведен на русский язык Валдой Волковской). Писатель играет кодами различных версий Фауста - от книги, изданной Шписом, через посредство Кристофера Марлоу (Заринем постоянно упоминается и цитируется его «Трагическая история доктора Фауста») и Гёте («Фауст» тоже прямо упоминается и цитируется) до Томаса Манна и Булгакова, и переводчица чутко отражает это. В изображении пакта человека и дьявола Заринь демонстрирует интегральную форму контактов с Марлоу, Гёте, Томасом Манном и Булгаковым, в создании центрального персонажа - музыканта - с Томасом Манном, в отображении через шествие дьявола со свитой по столице политической и литературной жизни - с Булгаковым. Дифференциальная форма контактов проявляется через отрицание спасения Богом Фауста (Мастера, музыканта и др.) и дарования ему покоя. Фауст латышского автора - исчадие ада, оборотень, палач, комендант нацистского концлагеря. Дифференциальная форма контактов проявляется и через намеренную перетасовку мотивов прототипов. «Фальшивый Фауст» М. Зариня и переводчицы В. Волковской - сложный комплекс интертекстуальной и переводческой вторичной авторской вненаходимости. Писатель уходит от влияния целого ряда произведений, переводчица наследует интертекстуальную вторичную авторскую трансгредиентность и даже цепочку интертекстуальной вторичной авторской внеположности (Марлоу, Гёте, Булгаков, Томас Манн и др.).
Рецепция, интертекст, контактные связи, фауст, иоганн вольфганг гёте, томас манн, маргер заринь, валда волковская
Короткий адрес: https://sciup.org/147247224
IDR: 147247224 | УДК: 82-1 | DOI: 10.17072/2073-6681-2024-4-125-134
Текст научной статьи Рецепция истории о Фаусте в новейшей прозе: "Фальшивый Фауст" Маргера Зариня в русском переводе
В 2024 г. исполняется 275 лет со дня рождения Гёте и 250 лет со дня выхода в свет его культового романа «Страдания юного Вертера». Иоганн Вольфганг Гёте – столь внушительная фигура даже среди гениев человечества, что мировая гётеана разрослась до гигантского количества источников. Хотя вершину гётеаны составляют труды крупных ученых Германии (W. Boehm, F. Koch, K.-O. Conrady, H. Korf, R. Friedenthal etc.) и России (В. Жирмунский, А. Аникст, Н. Вильмонт, С. Тураев, К. Свасьян и др.), на полную разгадку творческих тайн великого немецкого классика человечеству, безусловно, надеяться не приходится.
Создатель бессмертных шедевров лирики (среди которых миниатюра “Wanderers Nachtlied II” («Ночная песнь странника II»), коллекция стихотворных жемчужин “West-östlicher Divan” («Западно-восточный диван»)), эпоса (“Die Leiden des jungen Werthers” («Страдания юного Вертера», “Wilhelm Meisters Lehrjahre” («Годы учения Вильгельма Мейстера») и др.) и драмы (“Egmont” («Эгмонт»), “Iphigenie auf Tauris” («Ифигения в Тавриде») и др.), Гёте в первую очередь предстает автором «Фауста», произведения столь монументального, сильного и глубокого, что оно заняло достойное место рядом с «Илиадой» и «Одиссеей» Гомера, «Божественной комедией» Данте, «Гамлетом» Шекспира. Гёте периода «Бури и натиска» заболел «мировым духом» Шекспира, и его страсть к мировому размаху не остыла, а в полной мере воплотилась в «Фаусте». С великим английским классиком Гёте роднит и «шекспировское разнообразие», масштабность проблем, сочетание реальности и фантасмагории, трагического и комического, следование принципу «весь мир – театр». Немецкий поэт был человеком необычайно сильного темперамента и в то же время постоянного самоограничения (по Конради, сообразова-ния натуры «бурного гения» с конкретикой жизни в желании противостоять разрушительным силам губящего изнутри естества), субъективной личностью, необычайно открытой внешнему, объективному миру.
Резонанс И. В. Гёте велик и в наше время, имя немецкого классика остается одним из наиболее влиятельных мировых литературных имен. Новейшая проза содержит целый комплекс отсылок к Гёте на разных уровнях художественного текста. Д. Дюришин выделял интегральную и дифференциальную формы контактов. В первом случае взаимодействие продиктовано созвучием их творческих замыслов, во втором – полемичностью [Дюришин 1979: 149]. По Н. Конраду, литературные связи – явление, сопутствующее возникновению однородных литератур при наличии похожих исторических условий, а не определяющее его [Конрад 1972: 315–329]. Литературные контакты разделяются на синхронные с одностадиальным литературным материалом и диахронные с наследием предшествующих литературных эпох. «Гёте и мировая литерату-ра1» – широчайший диахронный комплекс контактов, впитавший в себя различные отсылки к Гёте Л. Толстого, Ф. Достоевского, Т. Манна, М. Булгакова и др., а также перекличку Гёте с Вергилием, Данте, Шекспиром через семанализ (Ю. Кристева). Наследуя Гёте, писатели обращаются и к более поздним писателям (также его наследникам), что усложняет временной характер контакта.
По утверждению П. Беркова, «преломление явлений чужих литератур в творческом сознании писателей, композиторов, художников, в искусстве кино, декламации и т. п.» является одним из видов литературных контактов наряду с «усвоением сюжетов, образов, приёмов, жанров, стихосложения и т. п.», «переводами-переработками и точными переводами», «подражаниями иноязычным литературным произведениям, полемике с ними в художественной форме, пародиями на них» и др. [Берков 1981: 38]. А. Веселовский считал, что «заимствование предполагает в воспринимающем не пустое место, а встречное течение, сходное направление мышления, аналогичные образы фантазии» [Жирмунский 1939: 16]. Отдаленное от нас по времени иноязычное явление Гёте привлекает современных прозаиков актуальностью своего месседжа – универсальностью взглядов, стремлением постичь истину, утверждением вечных человеческих ценностей. Русская и немецкая культура близки друг другу благодаря ряду посредников между ними. Компаративист А. Дима выделяет ряд индивидуальных (писатели, общественные деятели, путешественники и др.) и коллективных (страны, города, учреждения, библиотеки и др.) посредников [Дима 1977: 121–137]. Гёте остается одним из наиболее крупных индивидуальных посредников между немецкой и русской литературами.
На каком языке читают немецкого классика писатели, находящиеся с ним в интертекстуальном диалоге? Есть ли отличие между тем, в каком языковом облике проникает в культуру зарубежное явление? При восприятии Гёте на немецком языке в воспринимающем писателе словно пробуждается дух переводчика и сильнее, чем при чтении в русском переводе, желание (и право) творческого вмешательства в оригинал. Можно ли говорить о национальной адаптации Гёте новейшими русскими и русскоязычными прозаиками? Если действие романов переносится из Германии в страны другой культуры, из ори- гинала устраняются чуждые и непривычные для русского читателя элементы, то, по Н. Конраду, это национальная адаптация.
Как работает переводной текст, в котором наблюдаются отсылки к другому автору? Опираясь на труды предшественников [Тлостанова 2008; Berry, Epstein 1999], известный теоретик В. Аминева в своей статье «Перевод как форма репрезентации культурного пограничья» исследует особенности репрезентации гибридной идентичности, которая осуществляется как «в пределах», «внутри» гомогенной культуры, так и «на границах», в «промежутке» между различными традициями [Аминева 2022]. Переводчик автора, находящегося в диалоге с Гёте, вступает в диалог и с немецким классиком.
Проза 1980–2020-х гг., как и творчество предыдущих периодов литературы, пропитана гётевскими кодами. Наблюдается обращение к гётевским цитатам, реминисценциям, аллюзиям, биографическим фактам, сюжетам, персонажам, названиям, символам. В первую очередь обнаруживаются переклички со знаменитой трагедией немецкого гения. Роман «Фальшивый Фауст» латышского прозаика и музыканта Маргера За-риня появился на свет в 1984 г. в переводе на русский язык Валды Волковской. Это сильное, первого ряда произведение, связанное с «Фаустом» Гёте через посредничество К. Марлоу, Т. Манна, М. Булгакова и других писателей. Аллюзии на Гёте таятся в интертекстуальных ходах романа Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры» (1994). Роман Марка Берколайко «Доктор Фауст и его агентура» (2022) усиливает ученую ипостась Фауста и на любовном плане изображает парафраз любви пожилого Гёте к Ульрике фон Леветцов. Интересная находка – рукописный роман «[кортасар]», написанный коллективом авторов во главе с Дмитрием Бавильским при участии Дмитрия Дейча, Джен, Элины Войцеховской, Андрея Ко, Андрея Лебедева, Андрея Матвеева, Александра Волынского. Проект романа был инициирован в livejournal.com (ЖЖ) 30 июня 2003 г. Произведение, существующее в постах и собранной по ним рукописи (личный архив Дмитрия Бавильского), написано в стиле Кортасара по фабуле Фауста. Бавильский, сам в итоге написавший две трети текста, раздал пароль всем желающим участвовать в проекте, и вышеуказанные авторы в рамках общего сюжета создавали посты. Текст имеет «Театральное вступление». В произведении фигурируют Фауст, Мефистотель, пёс, Маргарита (Марго и Рита), директор театра и другие персонажи известной фабулы. Изображая типичную историю (провинциал осваивается в столице), авторы ссылаются на Гёте, который считал, что путь Фауста проходит всё человечество.
Также активны прямые и неявные отсылки к другим произведениям Гёте. К примеру, произведение Игоря Вишневецкого «Неизбирательное сродство. Роман из 1835 года» (2018) прямо отсылает к третьему роману Гёте – “Die Wahlver-wandtschaften” («Избирательное родство»), 1809.
Воистину культовое влияние Гёте на русскую литературу описано В. Жирмунским в его труде «Гёте в русской литературе» [Жирмунский 1937], и это воздействие можно распространить на литературу мировую. Рецепции немецкого гения в мировой литературе посвящен большой ряд работ. Только обзор этой литературы от первых попыток осмыслить эту сразу ставшую необъятной проблему через знаменитую монографию В. Жирмунского до новейших работ составит, пожалуй, отдельную книгу. К примеру, в исследовании Г. Ишимбаевой анализируется влияние образа Гёте на литературу постмодернистской эпохи [Ишимбаева 2019]. Н. Васин изучает рецепцию «Фауста» в русской литературе первой трети XIX века [Васин 2012], И. Попова и Д. Кольцов – в драме Л. Андреева [Попова, Кольцов 2010]. Рецептивной судьбе «Страданий юного Вертера», в том числе русскому художественному следу этого романа Гёте, посвящена книга М. Бента [Бент 2016]. Особое внимание учёных обращено на немецкую литературу, облучённую Гёте [Меньщикова 2010; Данилина 2003]. Такому интересу писателей к Гёте мы обязаны как его гению, так и духовному «присвоению» немецкого классика другими авторами. Продолжим ряд вдохновлённых Гёте русских писателей и философов – В. Жуковский, А. Пушкин, И. Тургенев, В. Соловьёв, Н. Бердяев, А. Белый и др. Нужно иметь веские причины браться за исследование рецепции Гёте.
Целью настоящей статьи является осмысление контактных связей с Гёте (в том числе через других авторов истории о Фаусте) в романе латышского прозаика Маргера Оттовича Зариня (1910–1993) «Фальшивый Фауст, или Переправленная, пополненная поваренная книга – П.П.П.» (1984). Предметом исследования становится переводной текст как объект трансграничья (перевод романа осуществлtн Валдой Волковской, создавшей русский инвариант романа). Писатель играет кодами различных версий Фауста – от книги, изданной Шписом, через посредство Кристофера Марлоу (Заринем постоянно упоминается и цитируется его «Трагическая история доктора Фауста») и Гёте («Фауст» тоже прямо упоминается и цитируется) до Томаса Манна и Булгакова, и переводчица чутко отражает это.
В 1587 г. устные предания о Фаусте были обработаны неизвестным автором, собраны в книгу «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике» и опубликованы издателем Й. Шписом (Франкфурт). Чудеса, совершаемые доктором, объяснялись в этой «народной книге» помощью дьявола и, конечно, осуждались автором (по одной из версий, автором был сам Шпис, ревностный лютеранин), не дарующим Фаусту спасения. Так утвердилась связь Фауста с дьяволом (Мефистофель - одно из имен Сатаны, восходящее к словам «мефиз» («разрушитель») и «тофель» («лжец»)), что ничуть не уменьшило популярности мага в глазах народа. В 1590 г. предшественник Шекспира Кристофер Марлоу создал трагедию “The Tragical History of Doctor Faustus” («Трагическая история доктора Фауста») (1588-1589?) на основе книги о Фаусте, изданной Шписом. Бродячие актерские труппы в Европе, в том числе в Германии, подхватили сюжет Марлоу, впоследствии ставший гвоздем репертуара кукольных театров. Юный Гёте не был знаком с текстом трагедии К. Марлоу, но знал ее интерпретацию в виде кукольной комедии, которая, как писал немецкий поэт в автобиографии «Поэзия и правда», «на все лады звучала и звенела» в нем.
Герой Маргера Зариня Кристофер Марлов (Мефистотель) - музыкант и композитор, как и манновский Фауст - Адриан Леверкюн («Доктор Фаустус»). В текст латышского автора нередко включены размышления о застольной музыке, и даже «Лунная соната» Бетховена исполняется и рефлексируется за столом. Но Кристофер способен сочинять и исполнять гениальную музыку (у него нечеловеческий дар), чему примером становится его соната в трех частях «Сарказмы». За-ринь словно собирает своих персонажей из различных мотивов их прототипов и других героев, связанных с историей Фауста. У зариневской Маргариты - один глаз зеленый, другой карий, как у булгаковского Воланда (у него один зеленый, другой черный). Она опальная поэтесса, оппонентка власти («Я принадлежу к левым. Я очень-очень-очень левая!» [Заринь 1984: 162]), как Иван Бездомный. Тем не менее Маргарита открыто радуется полученной благодаря Янису Вридрикису Трампедаху (Фаусту) роскоши, наслаждается розовым будуаром. Она злорадно думает о мести своим обидчикам. Ее прекрасный образ намеренно снижен: Маргарита «тайком таскает из кладовки селёдку и жрёт её, запершись в будуаре» [там же: 177]. Ласке с Янисом Вридрикисом отдается вскоре после его ухаживаний, но не из любви к нему, а из благодарности за материальные блага. Фауст у Зариня сначала спасает бросившуюся в реку с моста Маргариту, но в финале, как и гётевский персонаж, губит ее: в «Фальшивом Фаусте» Маргарита бросает Фауста, и он из ревности убивает ее ножом. У Кристофера Марлова - большой шрам на лице, как у Марка Крысобоя; писатель Кристофер Марлоу был убит ударом ножа возле глаза, возможно, и поэтому его двойник носит на лице такой шрам. Персонаж Зариня слегка припадает на левую ногу (Воланд страдает болью в колене), потому что левый каблук у него подбит подковой, как у лошади (вероятно, герой имеет копыта). Трампедах замечает у него «чуть повыше ушей небольшие отростки». Кристофер часто признается, что и есть Сатана («играть роль Мефисто», портье общается с ним, «не чуя, что перед ним Сатана»). Марлов то Сатана, то свита Сатаны (он якобы лакей магистра). Дьявол и свита перемещаются по столице (Риге). Есть у Зариня и прекрасная Елена: Кристофер играет за тафельклавиром «Прекрасную Елену», столовая музыка становится в этом случае музыкой для души.
«Кто тут искуситель, кто искушаемый - не разобрать» [там же: 10], - признается Марлов. «А вышло наоборот. Посланец Люцифера, тяжко униженный, страдал по Маргарите, в то время как доктор Фауст, обретя демоническую власть, безнаказанно глумился над ним и потешался» [там же: 249]. Кристофер называет Трампедаха и созданным им самим Гомункулом. Янис Врид-рикис - немец, хотя и скрывает это и признается только Маргарите (она тоже немка), и зовут его Иоганн, как в преданиях именуют Фауста (это первое личное имя Гёте, от которого немецкий классик, вероятно, намеренно ушел в «Фаусте», назвав героя Георгом).
Янис Вридрикис Трампедах в своем доме с похожими между собой загромождённостью локусами кухни и лаборатории «беспрепятственно предаётся наукам, гастрономии и словесности» [там же: 10] (Глава 1. Часть 1. Дом магистра Яниса Вридрикиса). На книжных полках стоят «дорогие, бесценные тома на греческом, латинском, русском, французском, немецком и английском языках» [там же]. Яниса Вридрикиса, алхимика (и Марлов - алхимик, он владеет рецептом молодости), Заринь именует магистром, то есть Мастером. Его горничная англичанка Ке-ролайна «с приколотой на затылке кукишкой, чёрными усёнками под носом и голосом драгунского прапорщика» «похожа на ведьму» [там же]. Магистр видит в Марлове «что-то демоническое», Кристофер в трансе шепчет рецепт и угадывает сон магистра. Свой договор (Трампе-дах передает Марлову в пользование свою поваренную книгу взамен на молодость и любовь прекрасной женщины) музыкант и магистр скрепляют кровью.
Изображаемые мотивы уходят корнями и в другие произведения авторов, облучённых Фаустом. Благодаря косметическим и алхимическим манипуляциям Марлова Трампедах волшебно молодеет не только как Маргарита у Булгакова, но и пародийно как пожилой юноша на палубе и сам Густав фон Ашенбах в «Смерти в Венеции», и становится в глазах Маргариты «рыжим идеалистом» (вспомним трех рыжих персонажей – вестников смерти в этой новелле). Образ Трам-педаха и процесс его омоложения снижены. Чего стоит забавное описание омоложения магистра с его «носом, который смахивает на перезрелую сливу» с помощью кузнечиков и огурцов! К концу романа «нос – слива «Виктория», такой же синий, как до примочек» [Заринь 1984: 300]. У Маргариты обнаруживается туберкулез, и Янис Вридрикис отправляет ее в горный санаторий. Марлов, заболевший чахоткой, тоже находится в «санатории, окружённом лесами, стоявшем на тихом и уединённом крутце Гауи, всего в сорока километрах от Риги» («Волшебная гора»). Свойственная Т. Манну оппозиция «Танатос/Эрос» присуща и Зариню. Маргарита, по словам Марлова, похожа на Чёрную Мэри. Имеется в виду современница Марлоу и Шекспира поэтесса Мэри Херберт (Сидни)2. В Маргариту влюблены как Трампедах (невзаимно, но она ради материальных благ заставляет его зарегистрировать с ней брак), так и Кристофер (взаимно). В романе есть легкие эротические сцены их счастливой любви. Героиню любят и Фауст, в итоге убивающий ее, и дьявол (герои постоянно меняются ролями). Главку XIII, описывающую тоску Кристофера по Маргарите, Заринь называет «Страдания молодого Вертера». Изображение предчувствия нацизма в третьей главе роднит «Фальшивого Фауста» с новеллой Т. Манна «Марио и волшебник». Немка Маргарита не хочет ехать с мужем в «великую Германию», ужасаясь тому, какими стали немцы, называя их «человеконенавистниками и предателями».
Полное название произведения Маргера За-риня «Фальшивый Фауст, или Переправленная, пополненная поваренная книга» говорит об обновлении истории о Фаусте, хотя здесь и фальшивого. «Фальшивым Фаустом» в книге названа «кулинарная фантазия Эразма Роттердамского», нарратор (рассказчик от лица Кристофера) сообщает, что название «Фальшивый Фауст, или Переправленная, пополненная поваренная книга» придумал для своей книги, текста, рождающегося в тексте. Обман (заведомое желание Кристофера выдать чужую книгу за свою) царит в романе уже с первой страницы. Герой берется за дело («В начале было дело»), зарясь на чужую книгу. Но он напарывается на большего обманщика. Янис Вридрикис
Трампедах сам украл эту книгу, написанную сто лет назад.
Как Булгакову, Зариню свойственно прямое обращение к читателю, приглашение к активному диалогу, сгущающееся к финалу: «Ваш одобрительный кивок и улыбка заставляют меня заранее благодарить вас за всё, в чём вы со мной согласны» [там же: 309]. Латышский автор постоянно меняет форму повествования: события в романе излагаются то всезнающим повествователем (и тогда Кристофер – персонаж от третьего лица), то рассказчиком Кристофером от лица «я». В речи повествователя встречается причудливое сочетание глагольных времен: преобладает прошедшее время, но периодически автор словно наводит лупу на изображаемое событие и останавливает его, «включая» настоящее время, словно повелевая «Остановись, мгновенье!».
В то же время переключение времен служит «иностранности» языка. При всей интертекстуальности роман Зариня отнюдь не вторичен. Художественная задача писателя – изобразить жизнь Латвии перед второй мировой войной и во время нее, и эта задача полнокровно и оригинально решена. Через фаустианскую историю Заринь показывает политическую и литературную пестроту и карнавальность Латвии 1930-х. У ее армии два танка, один из которых развалился на параде и был утащен с места демонстрации лошадками. Литературная жизнь Риги показана через калейдоскоп пародийных имен и названий периодики. Пресса, критика, писатели беспринципны: то поют осанну якобы утонувшей поэтессе Маргарите Шелле (даже те издания, которые раньше поносили ее), то после ее «воскресения» намереваются воздвигнуть памятник не ей, а ее «жертве» – невинно пострадавшему директору департамента. Владелец издательства «Жёлтая Роза» Янис Штерн сдирает со стен ее комнаты обои в виде рукописей стихов, «воскресшая» Маргарита грозится подать на него в суд, но меркантильно удовлетворяется немалым вознаграждением. Янис Врид-рикис начинает в Риге успешную карьеру политика и продолжает занятия сочинительством и алхимией. Сквозь текст проходит парафраз фабулы Христа и Иуды, в которой герои постоянно меняются местами: пятилатовый сребреник получает то Кристофер, то Трампедах, то Маргарита. В одном из эпизодов романа, говоря о военных предателях, Кристофер прямо заявляет: «Я не Иуда Искариот».
Двойничество – важнейший прием Зариня. Как известно, в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» в каждом из трех пространств (мире Иешуа, мире Москвы периода НЭП и мире Воланда) у героев есть двойники [Соколов 2016].
Кристофер Марлов признается Маргарите, что он и есть Кристофер Марлоу, живший в XVI в. рядом с Шекспиром, с которым тесно общался, и Галилеем. Курсивом в романе дается старина, в которой персонажами выступают Кристофер Марлоу, Шекспир, их современница Мэри Херберт, ее муж граф Уильям Херберт (его имя в любовном треугольнике словно намеренно вызывает путаницу с Шекспиром), Гёте, Байрон и др. Подобный курсив уводит роман в еще большую глубину. Мотивы двойничества усилены конспирацией персонажей: у Яниса Вридрикиса Трампедаха «временный псевдоним» Альгимант Альбрерод, Кристофер Марлов обретает имя пропавшего без вести Кристапа Бессера, партизан Василий оказывается Владимиром. Оборот-ничество постигает других людей во время войны: часть приятелей Кристофера становятся предателями и изуверами (а другие их жертвами).
В изображении пакта человека и дьявола За-ринь демонстрирует интегральную форму контактов с Марлоу, Гёте, Томасом Манном и Булгаковым, в создании центрального персонажа – музыканта – с Томасом Манном, в отображении через шествие дьявола со свитой по столице политической и литературной жизни – с Булгаковым. Дифференциальная форма контактов проявляется через отрицание спасения Богом Фауста (Мастера, музыканта и др.) и дарования ему покоя. Фауст латышского автора – исчадие ада, оборотень, палач. Заринь трактует интертекстуальность широко, показывая как отсылки к Гёте последователей, так и отражение его мотивов в произведениях предшественников (упомянутых в романе Вергилия и Шекспира). Дифференциальная форма контактов проявляется и через намеренную перетасовку мотивов прототипов. Метаморфозы (кто в романе Фауст, кто дьявол, кто Христос, кто Иуда?) приводят к множеству альтернативных финалов. Так, Маргарита умирает, заслоняя собой Кристофера, но убивает Маргариту и ранит Кристофера то ли дептфордский аббат (эта линия ведет к смерти Кристофера Марлоу, убитого в Дептфорде), то ли ревнивец Янис Вридрикис.
Если Фауст (Трампедах) здесь убийца, то Мефистофель (Кристофер), избегающий мобилизации, ужасающийся предателям, какой же дьявол, если «никогда никого не убивал» [Заринь 1984: 280]? Фабула о Фаусте, чуть было не побледневшая на фоне войны, предстает чудовищной метаморфозой. XIV главка называется “Arbeit macht frei” и повествует о жизни Кристофера в немецкой оккупации под вымышленным именем пропавшего сына своей крестной в местечке рядом с бывшим домом Яниса Вридрикиса. Марлова останавливают нацисты, один из которых оказывается в прошлом музыкантом. Эсэсовец «предал Баха, Моцарта, Шуберта, Шумана, Брамса, Лессинга, Гердера, Шиллера, Гёте» [там же: 296] (в этом списке, обратим дополнительное внимание, Лессинг и Гёте с их историями о Фаусте). После репатриации в «великую Германию» Фауст Зариня, изобретатель смертельного зелья, становится уполномоченным фюрера Уриана-Аурехана и стремится выведать омолодивший его эликсир у его изобретателя Кристофера «для омоложения престарелых сверхчеловеков арийской расы». Фауст – комендант концлагеря, он пытает Мефистофеля, ставшего связным советских партизан (кто из них Фауст, кто Мефистофель – давно непонятно), и планирует убить его изобретенным им ядом, но советские войска освобождают пленников, и Трампедах убивает себя.
«Убедить и околпачить едока – вот искусство так искусство» [там же: 215]. Человек ест не только пищу, но и всё, что предлагает ему общество. Выше было отмечено, что Кристофер (как Мефистофель) соблазняет Яниса Вридрикиса (как Фауста) вечной молодостью и любовью прекрасной женщины, беря взамен книгу Трам-педаха. Но, как выясняется в эпилоге, Трампедах сам плагиатор. Фальшивы не только Фауст и Мефистофель, а вся социально-политическая обстановка в Латвии 1930-х гг. Изображение Латвии в преддверии Второй мировой войны и затем под гнетом нацизма в фаустианской истории делает «Фальшивого Фауста» национальной (латышской) адаптацией известного сюжета.
Русский перевод Влады Волковской создает гибридную русско-латышскую адаптацию этой фабулы. Валда Адольфовна Волковская, как и Маргер Заринь, полигранист [Зейферт 2014], уверенно владеющая двумя видами искусства, талантливая актриса и переводчица. Родилась в Риге в семье художников. В 1955 г. окончила ГИТИС. Была актрисой в Рижском театре, Московском театре кукол. Член Союза переводчиков СССР. Чтобы перевести «Фальшивого Фауста», Волковской нужно было подняться на высочайший уровень обогащенного классиками и одновременно уникального стиля Маргера Зариня, и ей это блестяще удалось.
Заринь намеренно воспроизводит слог Томаса Манна – ювелирно точный, плотный, насыщенный деталями и подробностями, цветом, звуком, контуром, запахом, вкусом. Таков «язык пращуров с его калёным хлёстким словом» [Заринь 1984: 43], они запоминали тяжеловатый народный слог. В этом стиле вуалируется комичность: за алхимией в романе стоит в основном обжорство и распитие спиртных напитков, поданное точно взвешенными манновскими фразами. Столовую Яниса Ври-дрикиса украшают портреты изобретателей вод- ки, коньяка, настоящего пива с хмелем, Бахуса и Анакреонта и картины, в том числе местных «ша-родеев», с изображением распития и похмелья. Первым зельем, за изготовлением которого мы застаем Трампедаха, оказывается джин, которым доктор в свое время вылечил неисправимого пьяницу-священнослужителя с delirium tremens. Клавиатура тафельклавира залита вином.
Латинский и немецкий как языки науки За-ринь постоянно вкрапляет без перевода в свой текст, усиливая тему алхимии и фармацевтики, его Фауст – практикующий доктор. Переводчица, как и в оригинале у Зариня, сохраняет без перевода латинские и немецкие вкрапления в романе. Но порой она вынуждена пояснить непонятное немецкое слово: «хенкеры4 –вешатели» (о нацистах). Русский язык ею «онемечен»: к примеру, немцы обращаются к Кристоферу «керл»5 и др. Русский язык как язык культуры перевода, блестяще сделанного с латышского Валдой Волковской, намеренно «состарен», в него легко и непринужденно введены устаревшие слова (вервие, выя), редкие, странные синонимы (голуби – воркуны, шампиньоны – печерицы, десерт – верхосытка, клюква – журавика, прием пищи – еденье, радужка – радуга), иностранные и специальные слова. Русский язык, с одной стороны, уводит в другую эпоху, с другой – служит здесь нуждам латышского языка, изображая социально-политическую и бытовую жизнь Латвии в 1930-е гг. Недаром В. Турбин называет эту книгу «о политике, духовности и оккультизме» «актом просветительским» [Турбин 1984: 387]. Смешение языков у Зариня порой намеренно комично, как в примерах из сравнительного языкознания на полках у магистра: прозит, ваше здоровье, прими на грудь, толкни в пасть и др. Даже говоря о художественном произведении, писатель использует в речи персонажа алкогольную метафору: «…потрясающее перебродившее в недрах могучего интеллекта творение» [Заринь 1984: 26].
Эволюция образа Кристофера Марлова (Мефистофеля) от плагиатора чужого произведения до антифашиста показательна: человек в своем стремлении уничтожить другого человека (палачами в романе выступают и Фауст, и друзья-ровесники Марлова) становится хуже дьявола. Маргер Заринь, преломляя историю Фауста в своем романе, усваивает сюжет (пакт чёрта и человека), персонажей (Фауст, Мефистотель, Маргарита), жанровые модусы (трагизм, комизм) и, заявляя об опасности фаустовских душевных метаний, создает художественную полемику с Гёте и его предшественниками и последователями.
«Фальшивый Фауст» М. Зариня и переводчицы В. Волковской – сложный комплекс интертекстуальной и переводческой вторичной авторской вненаходимости. Писатель уходит от влияния целого ряда произведений. Переводчица наследует интертекстуальную вторичную авторскую трансгредиентность и даже цепочку интертекстуальной вторичной авторской внеположно-сти (Марлоу, Гёте, Булгаков, Томас Манн и др.). И Заринь, и Волковская как первостепенные авторы уходят из чужого художественного мира, чтобы обогатить его. Дистанция, которой они держатся, – дополнительный индикатор подлинности создаваемого ими текста. Множественность источников рождает здесь эффект облучения рефлексами3, при котором литературное явление (в этом процессе растёт резко индивидуальное явление) обогащается в поле перекрестья рефлексов, идущих от предшествующих и – меньшей частью – синхронных ему литературных явлений. Взаимодействие рефлексов усиливает оригинальную ткань рождающегося произведения – его собственная природа здесь ценна и первична. Облучённое произведение не заимствует признаки других литературных явлений, а подпитывает свои, исконные, их рефлексами.
Автор «Фальшивого Фауста» Маргер Заринь, как Гёте, прожил 82 года (жизнь Томаса Манна длилась 80 лет). Это не случайные совпадения. Томас Манн «гётеизировал» свою жизнь, наслаждаясь наследием кумира, трансформируя гётевские и гётианские факты в творчестве. Заринь, знаковая фигура в литературе и музыке Латвии, явственно подражает обоим классикам, что отражается на цельности и здоровой продолжительности его жизни.
Список литературы Рецепция истории о Фаусте в новейшей прозе: "Фальшивый Фауст" Маргера Зариня в русском переводе
- Аминева В. Р. Перевод как форма репрезентации культурного пограничья // Филологические науки. 2022. № 6. С. 84-92. doi 10.20339/PhS.6s-22.084
- Бент М. «Вертер, мученик мятежный.». М., 2016. 440 с.
- Берков П. Н. Проблемы исторического развития литературы. Л., 1981. 496 с.
- Васин Н. С. Рецепция трагедии Гёте «Фауст» в русской литературе первой трети XIX века // Филология и человек. 2012. № 2. С. 171-178.
- Данилина Г. И. И. Бахман и Гёте: композиция как цитата // Гетевские чтения - 2003 / под ред. С. В. Тураева. М., 2003. С. 221-237.
- Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. М., 1977. 300 с.
- Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М., 1979. 318 с.
- Жирмунский В. М. А.Н. Веселовский (18381906). Вступительная статья // Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. 5-32.
- Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л.: Гослитиздат, 1937. 674 с.
- Заринь М. Фальшивый Фауст, или Переправленная, пополненная поваренная книга - П.П.П. М.: Известия, 1984. 400 с.
- Зейферт Е. И. Интертекстуальная и переводческая вторичная вненаходимость автора // Вестник Московского университета. Теория перевода. Серия 22. 2024. Т. 17, № 1. С. 32-51. doi 10.55959/MSU2074-6636-22-2024-17-1-32-51.
- Зейферт Е. И. Манифест полигранизма // По-этоград. 2014. № 22(123). С. 34-39.
- Ишимбаева Г. Г. Рецепция образа Гёте в литературе постмодернистской эпохи // Российский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8, № 2. C. 118128. doi 10.15643/libartrus-2019.2.3
- Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972. 520 с.
- Меньщикова М. К. Рецепция творчества И. В. Гёте художественно-эстетической системе Ф. Геббеля // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 5 (1). С.351-354.
- Попова И. М., Кольцов Д. А. Рецепция «Фауста» Гёте в драматургии Л. Н. Андреева // Вестник ТГТУ. 2010. Т. 16, № 2. C. 474-478.
- Соколов Б. В. Расшифрованный Булгаков. Тайны «Мастера и Маргариты». М., 2016. 608 с.
- Тлостанова М. В. От философии мультикуль-турализма к философии транскультурации. М.: РУДН, 2008. 251 с.
- Турбин В. Время, которое в пути // Заринь М. Фальшивый Фауст, или Пополненная, поправленная поваренная книга. М.: Известия, 1984. С. 386-395.
- Berry Е., Epstein М. Transcultural experiments: Russian and American models of creative communication. New York: St. Martin's Press, 1999. 340 p.