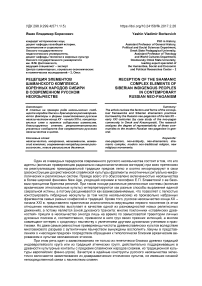Рецепция элементов шаманского комплекса коренных народов Сибири в современном русском неоязычестве
Автор: Яшин Владимир Борисович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере ряда неоязыческих сообществ городов Омска и Красноярска рассматриваются факторы и формы заимствования русским неоязычеством конца ХХ - начала XXI в. концептуальных схем и практик сибирского шаманизма. Анализируется степень репрезентативности указанных сообществ для современного русского неоязычества в целом.
Неоязычество, неоархаика, неошаманизм, шаманский комплекс, современная нетрадиционная религиозность, новые религиозные движения
Короткий адрес: https://sciup.org/14941187
IDR: 14941187 | УДК: 298.9:299.4(571.1/.5)
Текст научной статьи Рецепция элементов шаманского комплекса коренных народов Сибири в современном русском неоязычестве
Один из очевидных парадоксов современного русского неоязычества состоит в том, что его адепты (включая приверженцев радикально-националистических взглядов) при всех претензиях на реактуализацию примордиальной традиции предков легко и охотно инкорпорируют в свои (ре)конструкции дохристианской славянской культуры фрагменты иноэтничных ритуально-мифологических и религиозных систем. Прежде всего это обусловлено включенностью неоязычества в более широкий феномен New Age, уходящий корнями в теософию Е.П. Блаватской с ее базовым принципом братства религий. При таком походе различные религиозные системы (включая архаические этнолокальные культы) интерпретируются как разные способы выражения единой сакральной истины, а потому расцениваются как взаимозаменяемые, что позволяет с легкостью конструировать гибридные неокульты (в том числе неоязыческие) из произвольно набранных фрагментов самых разных конфессий и традиций. Кроме того, русское неоязычество конца ХХ – начала XXI в. представлено практически исключительно верующими первого поколения (в этом отношении неоязычество выступает в качестве одной из разновидностей новых религиозных движений), а потому является зоной духовного транзита: многие поклонники «славянских древностей» пришли в неоязычество (иногда лишь на время) по замысловатой траектории личных духовных поисков и, соответственно, привнесли в него груз своих прежних интенций, а многие совмещают интерес к «родному» язычеству с увлечением другими духовными учениями и практиками. Но даже самые ревностные приверженцы чистоты древнеславянских культов вследствие многовекового разрыва с аутентичным язычеством вынуждены восполнять лакуны в представлениях о «наследии предков» посредством обращения к типологически близким архаическим верованиям и культам неславянских этносов.
При этом речь идет о заимствованиях не только из генетически близких древних традиций индоевропейского круга или из традиций этнических групп, действительно поддерживавших в древности культурные контакты с предками славянских народов (скажем, из традиционной культуры европейских финно-угров). Зачастую в идейные конструкты русского неоязычества эклектично включаются заимствования из доавраамических этнических культов, не имевших никакой непосредственной связи с язычеством славян.
Как пример можно привести оформившиеся во второй половине 2000-х гг. неоязыческие сообщества «Родуница», «Коляда» (Красноярск), «Стезя Родова», «Ведара» (Омск) [1]. Данные сообщества выделяются стремлением включить в (ре)конструируемую дохристианскую традицию славян элементы шаманского комплекса народов Сибири - хакасов, тувинцев, этносов бурят-монгольской группы и т. д. Участники этих сообществ (кстати, некоторые из них репрезентируют себя одновременно и как славянских волхвов, и как шаманов, получивших посвящение в той или иной сибирской традиции) иногда совершают ритуалы славян и сибирских автохтонов поочередно, иногда в ходе единого действа совмещают элементы славянской обрядности с шаманским камланием. На соответствующих интернет-ресурсах (например, в сообществах в социальной сети «ВКонтакте», на страницах сайта Самопознание.ру), помимо материалов о дохристианских верованиях и культах славян, размещены электронные версии научных монографий и сборников статей исследователей сибирского шаманизма, реклама «оккульт-туров» по местам силы сибирских шаманов, файлы с фото- и видеофиксацией шаманских действ, рассуждения о символике сибирского шаманизма и т. п.
Необходимо оговориться, что упомянутые сообщества красноярских и омских неоязычников в значительной мере носят виртуальный характер. Дело не только в том, что их активность разворачивается преимущественно в интернет-пространстве. По сведениям Л.И. Григорьевой, красноярское общество «Коляда», перемежающее проведение языческих праздников и близких по духу тренингов с организацией шаманских этнотуров на озеро Байкал, в своем составе имеет только своего руководителя А. Ермоленко (Яросвета) и меняющийся вспомогательный персонал [2, с. 62]; а так называемая «Община Родноверов Красноярья “Родуница”» на самом деле представляет собой группу друзей, время от времени проводящих языческие праздники и ритуалы на природе и поддерживающих несколько «фейковых интернет-ресурсов» [3, с. 65-66]. Аналогичным образом омская религиозная организация шаманов «Ведара» является скорее типичным клиентурным культом, выстроенным вокруг своего руководителя Е. Комовой, а едва ли не единственным постоянным участником «Стези Родовой» является В. Январский, позиционирующий себя как организатор и глава этой «общины» (кстати, в отличие от другой группы омских неоязычников - «Славянской Общины Староверов-Семейников», «Стезя Родова» никогда не подавала в органы юстиции уведомления о своей деятельности для последующей регистрации в статусе религиозной организации).
Отталкиваясь от своих наблюдений за виртуальными организациями красноярских неоязычников, Л.И. Григорьева формулирует принципиально важную проблему: «...А не является все наше так называемое “Родноверие” и прочее “новое язычество” одним большим симулякром? Я совершенно солидарна с тем, что наши специалисты по новому язычеству в своих текстах практически описывают зачастую только “фасад”: внешне - исторические, политические, культурологические, мифологические аспекты, но никогда - собственно религиозную, сугубо внутреннюю, содержательную часть (если таковая существует на самом деле). В качестве объект-предметной сферы исследования выступает, как правило, конкретный человек (лидер, самопрезентующийся одиночка, энтузиаст и фанат), в качестве действа - масштабные “языческие праздники” фольклорно-развлекательного свойства, собирающие при помощи рекламы тысячи людей, в отношении которых непонятным остается самое главное - в каком качестве они здесь присутствуют? Являются ли эти люди сторонниками политико-идеологических лозунгов “нового язычества”? Или они просто интересно проводят досуг, кочуя по различным ньюэйджевским мероприятиям и поселениям? Имеют ли они собственно религиозную веру “языческого типа”? Что она такое в реальности, а не в общих теориях? Каковы ее догматы, используемые верующими для формирования религиозных практик и уклада жизни? Существуют ли стабильные общины, наподобие тех, которые есть в любой настоящей религиозной системе, включая и НРД, - идет ли речь о мормонах, бахаи или, например, са-хаджа-йогах. Общины, члены которой регулярно, не реже раза в неделю, собираются с целью совместного исповедания веры, организации общинных дел, выработки определенного (собственно религиозного) стиля жизни» [4, с. 66-67].
При всем уважении к Л.И. Григорьевой как авторитетнейшему специалисту в сфере новых религиозных движений и бесспорной актуальности затронутой ею темы приведенная постановка вопроса вызывает ряд возражений. Во-первых, попытка свести все бесконечное и внутренне противоречивое многообразие моделей современного неоязычества к некой «собственно религиозной вере языческого типа», к тому же отрефлексированной в виде жестких догматов, выглядит неоправданным упрощением. Во-вторых, методологически неверно противопоставлять неоязы-ческие интенции «конкретного человека» строго организованным неоязыческим структурам как нечто маргинальное и несущественное фундаментальному и эссенциальному - неверно хотя бы уже потому, что никакого эталонного, «единственно истинного», «ортодоксального» неоязычества не существует и не может существовать в принципе.
Вообще, едва ли целесообразно в лишний раз аргументировать тезис о том, что неклассическая картина мира вообще и постмодерная религиозность в частности характеризуются бесси- стемностью, ацентризмом, аморфностью, отходом от конфессионально четких институционализированных форматов. В этом смысле современная религиозность все более возвращается к синкретизму архаического периода. Применительно к современному состоянию религиозной сферы исследователи используют термины «диффузная религиозность», «самодельные религии», «внеконфессиональная духовность», «вера без принадлежности» и т. д. [5]. Похоже, на рубеже ХХ-XXI вв. процесс приватизации религии, переместивший ее из сферы внешних, социально предписанных регуляторов в плоскость внутренних переживаний и мотиваций отдельного человека, вышел на качественно новый уровень - стадию конструирования нестабильных и эклектичных индивидуальных религиозных миров. Соответственно, изучение современных религиозных процессов неизбежно должно включать в себя персоноразмерный аспект.
С учетом сказанного в целом убедительным представляется мнение В.А. Мартиновича, согласно которому целостное восприятие феномена неоязычества требует анализа всего многообразия его основных форм. Известный белорусский исследователь выделяет шесть типов неоязычества по его структуре: неоязыческие секты и культы, неоязыческие клиентурные культы, неоязыческие аудиторные культы, неоязыческая среда общества, неоязыческие общности во внутрицерковном сектантстве, неоязыческие сектоподобные группы. Тем самым по своему социальному устройству современное неоязычество варьирует в диапазоне от неоязыческих культов и сект, которые «имеют сильную организационную структуру, институт постоянного членства, всесторонне развитое вероучение», до неоязыческой среды общества, представляющей собой «сферу неинституционализированных форм неоязычества, состоящих из идей и ритуальных практик, разделяемых и исполняемых людьми в индивидуальном порядке без присоединения к каким-либо сообществам и организациям» [6].
В этом контексте заслуживает упоминания предложенная Д. Георгисом систематизация форм язычества, связанная с его различными историческими трансформациями. В рамках этой типологизации собственно неоязычество (в отличие от таких таксонов, как язычество «эталонное», «утраченное», «удержанное», «синкретическое», «восстановленное», «двоеверческое», «запрещенное» и «возрождаемое») понимается «как индивидуальное мировоззрение или личная вера, как феномен молодежной субкультуры, не стремящийся к сохранению или восстановлению исконных языческих традиций народа, возникающий из любви к природе и собственному народу, рождающийся в собственном художественном, эстетическом, философском восприятии мира или через знакомство с современными и древними произведениями соответствующего характера или как политический, националистический, культурный, экологический протест (вызов) современной культуре, цивилизации» [7, с. 146].
Напомним также, что любое новое религиозное движение начинается с харизматических лидеров и нестабильных неформальных сообществ, складывающихся вокруг них. Поэтому дисперсные неоязыческие группы и отдельные представители неоязыческой культовой среды вызывают интерес не только с точки зрения изучения присутствующих настроений в религиозной сфере социума, но и как потенциальные центры формирования новых культов. Причем известны случаи, когда первоначально ни к чему не обязывающие компании приятелей с близкими интересами в сфере славянского язычества постепенно даже помимо своей воли трансформировались в более-менее институционализированные структуры по мере перехода к относительно регулярной ритуальной практике и расширения круга единомышленников [8].
Что касается мотивов, руководствуясь которыми неоязычники-одиночки или слабоструктурированные неоязыческие группы позиционируют себя как активно функционирующие, устойчивые и четко организованные общины, то они связаны отчасти с соображениями имиджевого характера (иногда в целях повышения личного статуса, иногда для достижения коммерческих результатов), отчасти с игровой природой неоязычества как субкультуры постмодерна, отчасти с тем, что само слово «община» вызывает ассоциации с исконностью, патриархальностью и традиционностью, а потому оно особо созвучно неоязыческим интенциям. Вместе с тем в информационную эпоху виртуальные конструкты воспринимаются едва ли не более реальными, нежели компоненты физического мира, а «фейковый» интернет-контент оказывает едва ли не большее миссионерско-пропагандистское воздействие, чем строго выверенные факты.
Важно, что кейсы с «Колядой», «Родуницей», «Стезей Родовой», «Ведарой» репрезентативны в отношении значимого сегмента современного русского неоязычества не только в аспекте уровня социализации, но и в содержательном плане. Интерес к шаманизму проявляют не только сообщества ревнителей «Руси изначальной», территориально расположенных в относительной близости к регионам с актуальной шаманской культурой, - он характерен для постсоветского русского неоязычества в целом.
В неоязыческих кругах достаточно распространено представление о шаманизме если не как о фундаментальном интегральном феномене архаического ритуально-мифологического ком- плекса, то, по крайней мере, как об одной из важнейших его составляющих. Соответственно, шаманизму придается характер универсалии, так или иначе присутствующей в архаических традициях всех этнических групп, включая славян. Особую известность попытками (ре)конструировать «русский шаманизм» приобрел волхв Велимир (Н. Сперанский) – один из лидеров возникшей еще в 1990-х гг. родноверческой общины «Коляда Вятичей» (Москва). Показательно, что в качестве отправной точки в этих «исторических изысканиях», в качестве эталона шаманских представлений и практик Велимир выбрал именно шаманизм коренных народов Сибири, в частности обских угров [9, с. 38, 178, 187–188, 195, 227, 229–230, 255, 577 и др.].
В настоящее время многие объединения русских неоязычников включают в свою ритуальную практику элементы шаманских камланий (иногда без привязки к этнической конкретике), в первую очередь использование бубна. В этом аспекте русское неоязычество также не унифицировано. В одних случаях те или иные компоненты шаманского комплекса интегрируются в ритуальное действо как нечто периферийное и факультативное. Как пример можно привести применение бубна в родноверческой общине города Рязани. По словам ее лидера Богумила (Б. Гасанова), «с бубном работа идет на празднике для ввода себя в состояние, близкое к трансу. Но если войти в настоящий, полноценный транс, то какой уж тут обряд… Обряд провести будет невозможно, так что должна быть какая-то грань. <…> Уйдя в состояние радения, ты будешь внутри себя и вне мира, а мы на празднике радеем, ведем обряд – не для себя. За нами стоят люди, которые пришли на праздник, чтобы их слова передали дальше, Богам, сделали для них обряд» [10, с. 107].
В других случаях, напротив, шаманской атрибутике придается подчеркнуто сакральный статус. Так, в неоязыческой общине (иначе – семейно-родовом селении) «ПравоВеди», расположенной недалеко от города Коломны, восьмиугольный деревянный бубен, являющий собой образ мироздания, хранится в помещении храма Рода, куда имеют право входить только глава общины МаЛена (Е. Мартынова) и ее сыновья, помогающие ей во время праздников [11, с. 34]. В контексте проблематики данной статьи весьма примечательно, что «Ма-Лена связывает происхождение своего рода с Сибирью (“Хотя я рождена в Сокольниках, жила в Измайлово, по отцу – Алтайского рода”), а значит, и с древним знанием, поскольку в соответствии с мифом славянских неоязычников, именно в Сибири (“на Севере”) находится загадочная страна предков – Гиперборея» [12, с. 33].
В целом приведенные материалы в очередной раз подтверждают тезис о чрезвычайно эклектичном, диффузном, коллажном характере нетрадиционной религиозности в постсекулярном глобализирующемся мире. Это относится даже к неоязычеству при всей его декларативной ориентации на возрождение аутентичных этнических традиций дохристианских времен.
Ссылки:
-
1. Григорьева Л.И. «Язычники» Красноярска в формате кейс-стади: взгляд снаружи и изнутри // Язычество в современной России: опыт междисциплинарного исследования. Н. Новгород, 2016. С. 62–77 ; Яшин В.Б. Неоархаика в эпоху постмодерна: религиозная организация шаманов «Ведара» (г. Омск) // Религиозная ситуация в российских регионах : тез. докл. и сообщ. Пятой Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 20–21 окт. 2016 г.). Омск, 2016. С. 81–84.
-
2. Григорьева Л.И. Указ. соч. С. 62.
-
3. Там же. С. 65–66.
-
4. Там же. С. 66–67.
-
5. См., например: Матецкая А.В. Диффузная религиозность в современном обществе // Свеча – 2013. Т. 25. Религия, religio и религиозность в региональном и глобальном измерении. Владимир, 2013. С. 6–14.
-
6. Мартинович В.А. Проблематика целостного восприятия феномена неоязычества // Язычество в современной России: опыт междисциплинарного исследования : коллектив. моногр. Н. Новгород, 2016. С. 161–175.
-
7. Георгис Д. Об определении понятия «язычества», типологии язычества и оценке численности современных язычников в России // Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы : сб. материалов Третьего конгр. рос. исследователей религии (7‒9 окт. 2016 г., Владимир, ВлГУ) : в 6 т. Т. 2. Владимир, 2016. С. 133–154.
-
8. Скрыльников П.А. Сообщества родноверов: от дружеской компании к религиозной общине (по материалам исследования сообществ г. Костромы) // Там же. С. 215–217.
-
9. Влх. Велимир. Русское язычество и шаманизм. М., 2006. 608 с.
-
10. Шиженский Р.В. Интервью с Богумилом (Богумилом Ашумовичем Гасановым). 18 августа 2014 г. Рязань // Colloquium heptaplomeres : науч. альм. Вып. II / сост.: А.А. Бесков, Р.В. Шиженский. Н. Новгород, 2015. С. 102–116.
-
11. Ожиганова А.А. Конструирование традиции в неоязыческой общине «ПравоВеди» // Там же. С. 30–38.
-
12. Там же. С. 33.
Список литературы Рецепция элементов шаманского комплекса коренных народов Сибири в современном русском неоязычестве
- Григорьева Л.И. «Язычники» Красноярска в формате кейс-стади: взгляд снаружи и изнутри//Язычество в современной России: опыт междисциплинарного исследования. Н. Новгород, 2016. С. 62-77.
- Яшин В.Б. Неоархаика в эпоху постмодерна: религиозная организация шаманов «Ведара» (г. Омск)//Религиозная ситуация в российских регионах: тез. докл. и сообщ. Пятой Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 20-21 окт. 2016 г.). Омск, 2016. С. 81-84.
- Матецкая А.В. Диффузная религиозность в современном обществе//Свеча -2013. Т. 25. Религия, religio и религиозность в региональном и глобальном измерении. Владимир, 2013. С. 6-14.
- Мартинович В.А. Проблематика целостного восприятия феномена неоязычества//Язычество в современной России: опыт междисциплинарного исследования: коллектив. моногр. Н. Новгород, 2016. С. 161-175.
- Георгис Д. Об определении понятия «язычества», типологии язычества и оценке численности современных язычников в России//Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы: сб. материалов Третьего конгр. рос. исследователей религии (7-9 окт. 2016 г., Владимир, ВлГУ): в 6 т. Т. 2. Владимир, 2016. С. 133-154.
- Скрыльников П.А. Сообщества родноверов: от дружеской компании к религиозной общине (по материалам исследования сообществ г. Костромы)//Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы: сб. материалов Третьего конгр. рос. исследователей религии (7-9 окт. 2016 г., Владимир, ВлГУ): в 6 т. Т. 2. Владимир, 2016.С. 215-217.
- Влх. Велимир. Русское язычество и шаманизм. М., 2006. 608 с.
- Шиженский Р.В. Интервью с Богумилом (Богумилом Ашумовичем Гасановым). 18 августа 2014 г. Рязань//Colloquium heptaplomeres: науч. альм. Вып. II/сост.: А.А. Бесков, Р.В. Шиженский. Н. Новгород, 2015. С. 102-116.
- Ожиганова А.А. Конструирование традиции в неоязыческой общине «ПравоВеди»//Colloquium heptaplomeres: науч. альм. Вып. II/сост.: А.А. Бесков, Р.В. Шиженский. Н. Новгород, 2015. С. 30-38.