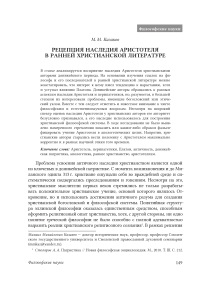Рецепция наследия Аристотеля в ранней христианской литературе
Автор: Казаков Михаил Михайлович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 2 (73), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется восприятие наследия Аристотеля христианскими авторами доникейского периода. На основании изучения ссылок на философа и его последователей в ранней христианской литературе можно констатировать, что интерес к нему имел тенденцию к нарастанию, хотя и уступал влиянию Платона. Доникейские авторы обращались к разным аспектам наследия Аристотеля и перипатетиков, но, разумеется, в большей степени их интересовали проблемы, имеющие богословский или этический уклон. Вместе с тем следует отметить и известное внимание к чисто философским и естественнонаучным вопросам. Несмотря на широкий спектр оценок наследия Аристотеля у христианских авторов его авторитет безусловно признавался, а его наследие использовалось для построения христианской философской системы. В ходе исследования не было выявлено намеренного стремления исказить или каким-либо образом фальсифицировать учение Аристотеля в апологетических целях. Напротив, христианские авторы старались вести полемику с Аристотелем максимально корректно и в рамках научной этики того времени.
Аристотель, перипатетики, платон, античность, доникей- ская патристика, апологетика, раннее христианство, аристотелизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140190280
IDR: 140190280
Текст научной статьи Рецепция наследия Аристотеля в ранней христианской литературе
проблемы соотношения христианства с античным наследием оформилось как направление, ориентированное на гармонический синтез христианской идеи Откровения с философской традицией античного рационализма, так и направление, прокламировавшее их несовместимость2.
Соотношение христианства и патристики с античной культурой и философией постоянно было в центре внимания исследователей. Интерес к этой проблеме не угасает и в наши дни и включает в числе прочих вопросов наследие Аристотеля3. Традиционным подходом, сложившимся и в философских, и в патристических исследованиях, является изучение влияния Аристотеля на позднеантичную (бл. Августин, Боэций) и средневековую (Альберт Великий, Фома Аквинский) христианскую мысль. В последние годы усилился интерес исследователей к вопросу о влиянии Аристотеля на отцов-каппадокийцев и представителей Александрийской школы4. Недавно была предпринята интересная попытка проследить влияние Аристотеля на расхождение восточного и западного христианского богословия5. Тем не менее, в литературе устоялось в целом справедливое мнение о том, что раннее христианство в отношении философской рецепции в доникейский период находилось преимущественно под влиянием стоицизма и платонизма, влияние которого усиливалось по мере выработки и адаптации неоплатонических концепций. Впрочем, в самом неоплатонизме, который был наиболее синтетической философией во всем античном мире, аристотелизм сказался не меньше самого Платона6, а собственно неоплатонический синтез, как отмечал С. С. Аверинцев, включал в себя «аристотелевскую компоненту»7.
Соглашаясь с этими заключениями, следует отметить, что Аристотель «входил» в христианство постепенно, и о восприятии христианскими авторами аристотелевской терминологии и технологии обычно говорят применительно к никейской эпохе. Доникейское христианство в литературе, как правило, рассматривают через призму стоицизма и платонизма, игнорируя влияние Аристотеля. Однако изучение начального проникновения аристотелизма в патристику и рецепции его наследия в ранней христианской литературе также представляет научный интерес, и именно это является целью данного исследования.
При изучении проблемы рецепции наследия Аристотеля в доникей-ской христианской литературе необходимо иметь в виду следующее.
Во-первых, небольшое количество дошедших до нас текстов раннехристианских авторов, совершенно несопоставимое с объемами христианской литературы последующего времени.
Во-вторых, методика работы христианских авторов со священными текстами (экзегеза или герменевтика) имела следствием такой же подход и к текстам философским, то есть извлечение того смысла, который в наибольшей степени подходил к собственным идеям и мыслям.
В-третьих, далеко не всегда древние авторы, и христианские в том числе, имели обыкновение прибегать к точному цитированию и правильному оформлению ссылок на источники; широко допускались цитирования по памяти или из вторых рук, а порой и прямой плагиат.
В-четвертых, критика аристотелизма христианскими авторами нередко концентрировалась на философских доктринах, далеко не всегда восходящих к самому Аристотелю8.
В-пятых, сами философские школы во II–III вв. вели между собой оживленную полемику, в ходе которой, например, Александр Афроди-сийский отстаивал абсолютный приоритет Аристотеля, а Аттик, напротив, пытался очистить платонизм от аристотелизма9.
Подсчет упоминаний Аристотеля и перипатетиков в сравнении с упоминаниями Платона и платоников в текстах семи христианских авторов II в. и семи авторов III — начала IV в. позволил получить следующие количественные результаты.
Со 150-х до 310-х гг. (от св. Иустина до Лактанция) Аристотель упоминается у всех четырнадцати исследованных авторов 88 раз, перипатетики — 41 раз, а Платон и платоники — 435 раз.
И во II в., и в III в. среди христианских авторов были те, кто полностью игнорировал Аристотеля (Аристид, св. Иустин, Феофил, св. Киприан), и те, кто обращался к нему довольно часто, хотя и в отдельных произведениях, а не во всем творчестве (чаще всех — Климент Александрийский и Тертуллиан).
Количество упоминаний Аристотеля у семи авторов III в. в семь раз превышает количество упоминаний у семи авторов II в.10
Соотношение упоминаний Платона и Аристотеля в произведениях христианских авторов двух столетий раннего христианства меняется в пользу Аристотеля: во II в. Платон упоминается в 5,8 раз чаще, чем Аристотель, а в III в. это соотношение уменьшается примерно на единицу. Вместе с тем существенно увеличивается количество упоминаний перипатетиков: если во II в. их соотношение с Аристотелем было 1 к 3, то в следующем столетии — 1 к 2.
Соотношение упоминаний Аристотеля и перипатетиков с Платоном и платониками за весь рассмотренный период в полтора столетия составляет 1 к 3,3.
Таким образом, даже если учесть количественный рост общего объема христианской литературы, можно констатировать определенное усиление внимания христиан и к Аристотелю, и к его последователям.
Обращение к контексту упоминаний Аристотеля позволяет выявить целый ряд особенностей усвоения его наследия христианскими мыслителями на начальных этапах становления патристики. При этом вполне очевидным является факт обращения к античной философии только у третьего поколения христианских писателей: ни у апостолов, ни у апостольских мужей имена Аристотеля и других античных философов вообще не встречаются, что объясняется проблематикой их творчества, направленной на Священное Писание, деяния и учения Иисуса Христа и его учеников, а также регламентацию жизни первохристианских общин. Во II в. в христианской литературе выделяется апологетическое направление, целью которого было продемонстрировать языческому миру приемлемость христианства с самых разных сторон — гражданской, философско-богословской, религиозной, культурной и т. д.11 В стремлении защитить христианскую веру от нападок со стороны языческого мира апологеты стали использовать рациональную аргументацию и обращаться к философской терминологии. Главной причиной этого можно считать осознание необходимости общаться с нехристианской аудиторией на понятном для нее языке.
Одним из первых христианских авторов, кто обратился к проблеме соотношения Откровения и философии, был св. Иустин Мученик. В «Диалоге с Трифоном иудеем», датируемом примерно 155–160 гг.12, христианский философ высказывает важную и смелую мысль, возводя стремление к философии в ранг святости: «Философия поистине есть величайшее и драгоценнейшее в очах Божиих стяжание: она одна приводит нас к Богу и делает нас угодными Ему, и подлинно святы те, которые устремили свой ум к философии»13. Очевидно, что св. Иустин знает Аристотеля, но упоминает не его, а перипатетиков, отмечая остроумие одного из них, к которому он хотел поступить на обучение, но тот уже через несколько дней его разочаровал, попросив плату за свои услуги. Из этого же отрывка можно заключить, что поиски истинной философии привели автора в конечном итоге не к Стаги-риту, а к Платону: «В скором времени, казалось, я сделался мудрецом, и в своем безрассудстве надеялся скоро созерцать самого Бога, ибо такова цель Платоновой философии»14.
Афинагор Афинянин (ок. 133 — ок. 190), который так же, как и его предшественник, пришел в христианство из философии, развивает христианский взгляд на философию и упоминает Аристотеля и Платона в связи с описанием Бога пифагорейцами, но оговаривается, что не намерен подробно излагать учение философов, лишь отмечая, что римские императоры превосходят их мудростью и силою власти15. Мнения философов Афинагор приводит в подтверждение своего обоснования единства Бога: «Но так как без приведения имен философов невозможно показать, что не одни мы почитаем Бога единым, то я и обратился к их мнениям»16. Среди них приводится и мнение Стагирита: «Аристотель и его последователи, признавая Бога единого, представляют Его в виде какого-то сложного животного, состоящего из души и тела; телом Его почитают эфир, блуждающие звезды и сферу неподвижных звезд, которые двигаются кругообразно; а душою разум, который управляет движением тела, и сам в себе не движимый, служит причиною его дви-жения»17. Ниже апологет упоминает перипатетиков, приводя их мнение о том, что мир является сущностью и телом Бога, и возражая против поклонения стихиям18. Еще одно возражение Аристотелю Афинагор приводит в связи с мыслью философа о том, что поднебесная не управляется Промыслом, между тем, утверждает апологет, «вечный Промысл Божий постоянно бодрствует над нами»19.
Татиан Ассириец (112–185) в свойственной ему едкой манере высмеивает античных философов, включая Аристотеля, которому, как и его последователям, ставит в упрек установление предела Провидению и ограничение счастья тем, что ему самому нравилось: «По учению Аристотеля не могут быть счастливы те, которые не имеют ни красоты, ни богатства, ни здоровья телесного, ни знатности. И такие-то люди, — с горечью заключает апологет, — пусть считаются философами»20. Еще один упрек
Татиана вызывает излишняя, по его мнению, лесть Аристотеля по отношению к Александру Македонскому. Ниже Татиан делает еще один антиаристотелевский выпад в связи с тем, что философ «колеблет бессмертие души», а также в связи с непоследовательностью философов вообще, следующих то Платону, то Аристотелю, то Демокриту и т. д.21 При этом Татиан делает попытку ввести новые категории сущего и подобия. Сущее, как и у Аристотеля, — это то, «что не может быть сравниваемо», подобие — это «то, что сравнивается». Впрочем, от Аристотеля здесь заимствуется лишь часть определения, что уже не Аристотель и не усеченный Аристотель22. Вместе с тем критика концепций Стагири-та у Татиана, по мнению некоторых исследователей23, была более полной и прямой, чем его критика платонизма.
Св. Ириней Лугудунский (ок. 130 — ок. 202) в своем главном и весьма обширном сочинении «Пять книг обличения и опровержения лжеименного знания», которое содержит подробное изложение гностических теорий и их происхождения, упоминает Аристотеля лишь дважды. Один раз его имя встречается в связи с ересью Карпократа, последователи которого выставляли образ Христа вместе с изображениями античных философов, включая Аристотеля, и выказывали им знаки почтения, как язычники24. Далее св. Ириней критикует гностика Валентина и его последователей за то, что «они стараются также вносить в дело веры мелочность и тонкость вопросов, что свойственно школе Аристотеля»25.
Минуций Феликс в диалоге «Октавий», который был написан при императоре Коммоде (180–192), приводит мнения о Боге различных философов, отмечая, что Аристотель, хотя говорил различно, однако всегда держался мнения о единой власти; ибо он называл Бога то разумом, то миром, или же подчинял мир Богу26. То есть апологет усматривал в учении Аристотеля явную тенденцию к монотеизму.
Таким образом, в христианской литературе II в. можно обнаружить определенный интерес к Аристотелю и его наследию. Некоторые христианские апологеты ограничивают свое обращение к фигуре Аристотеля весьма поверхностной критикой (Татиан, св. Ириней), другие пытаются критиковать Аристотеля более глубоко, затрагивая отдельные аспекты его учения (Афинагор), но показательно, что предпринимается попытка найти положительные для христианства идеи о Боге (Минуций).
В III веке в христианской литературе наряду с продолжением уже оформившихся ранее направлений — антиязыческой и антиеретической апологетики — появляются новые направления и жанры. Авторы этого периода затрагивают новые темы, больше и чаще обращаются к античному наследию, включая философию. Главной тенденцией становится стремление привести христианское богословие в систему.
Св. Ипполит Римский (ок. 170 — ок. 235) в своем главном труде «Опровержение всех ересей» ставил своей целью вывести все ереси из трудов античных философов. Первая книга этого труда «О философских умозрениях» («Философумена») содержит очерк различных философских школ, включая Аристотеля, которому посвящена отдельная глава. Речь об Аристотеле идет и в других книгах, в которых автор опровергает ереси, указывая на их зависимость от того или иного течения в античной философии27. Хотя св. Ипполит демонстрирует знание наследия философа, наряду с достаточно верным изложением Аристотелевой теории категорий и этики, Стагириту приписывается им стоическое учение о существовании души после гибели тела. При этом св. Ипполит не только приписывает Аристотелю это учение, но и отождествляет эфир и пневму28.
Св. Ипполит называет Аристотеля зачинателем диалектики, а его философию — логической29. Отмечая, что Аристотель свел философию к ремеслу (τέχνη)30, Ипполит ставит ему в заслугу то, что он особенно прославился в логике31. Говоря о том, что в качестве начал всего Аристотель положил субстанции и акциденции, св. Ипполит в качестве примера субстанции называет Бога, а в качестве примера акциденции — отца и сына32. Сравнивая учения Платона и Аристотеля о благе, св. Ипполит обращает внимание на трехчастное деление благ у Аристотеля и на то, что «злые вещи возникают в качестве противоположностей благим, и пребывают лишь в подлунном месте, не достигая надлунного [мира]; и что мировая душа бессмертна, а мир — вечен»33. Таким образом, у св. Ипполита мы встречаем, пожалуй, первый в христианской литературе наиболее полный обзор учений Аристотеля.
Тертуллиан после обращения около 193 г. в христианство и рукоположения около 200 г. в пресвитеры писал полемические труды, в которых затрагивал различные философские вопросы. При этом его общее отношение к философии было не просто критическим, но глубоко оппозиционным. Он не только осуждал философские школы и нравственные ценности античной цивилизации, но и считал, что цивилизация вообще испортила и извратила человека. По Тертуллиану, философия должна была навсегда расстаться со своей исследовательской и конструктивной функцией и сохранить за собой только функцию объяснительную34. Хотя апологет демонстрирует весьма обширные познания в философии античности, с произведениями многих философов он был знаком благодаря справочникам, комментариям и компендиям, довольно широко распространенным в его время35. Исследователи допускают, что Тертуллиан даже не читал некоторых упомянутых им античных философов или некоторых критикуемых им сочинений36. Отчасти это касается и Аристотеля, которого апологет упоминает в своих произведениях около двух десятков раз (а также пять раз упоминает перипатетиков).
В основном Тертуллиан говорит об Аристотеле в негативном контексте. Например, в «Апологетике», превознося достоинства христиан по контрасту с пороками язычников, апологет упрекает Стагирита в том, что он своего друга «недостойным образом выгнал с его места», в то время как «христианин не вредит и своему врагу»37. Заслужил упрек, по мнению Тертуллиана, Аристотель и в том, что он «недостойно льстил Александру, которым скорее должен был бы управлять»38. Однако главная атака на Аристотеля вызвана тем, что он послужил одним из «источников» возникновения ересей. В этом отношении негодование апологета становится столь сильным, что он применяет по отношение к великому мыслителю эпитет «жалкий»39: «Он сочинил для них диалектику — искусство строить и разрушать, притворную в суждениях, изворотливую в посылках, недалекую в доказательствах, деятельную в пререканиях, тягостную даже для самой себя, трактующую обо всем, но так ничего и не выясняющую»40. И далее Тертуллиан четко формулирует свое отношение к философии, утверждая приоритет веры: «Да запомнят это все, кто хотел сделать христианство и стоическим, и платоническим, и диалектическим. В любознательности нам нет нужды после Иисуса Христа, а в поисках истины — после Евангелия»41.
Тертуллиан упоминает Аристотеля особенно часто в произведении «О душе», полемизируя с одноименным творением Стагирита. Тон этой полемике задает известная тертуллиановская характеристика философов как патриархов еретиков42, а также утверждение о том, что понимание души было извращено философскими учениями43. Впрочем, в перечислении философов Аристотель на их фоне удостоен довольно лестной характеристики: «или размеренность Аристотеля, или глупость Эпикура, или печаль Гераклита, или безумие Эмпедокла», а ниже приводится такое качество Стагирита, как привычка «свое наполнять или чужое опорожнять»44, что можно понимать и как комплимент, и как осуждение.
Несмотря на общий негатив по отношению к философии, Тертуллиан находит возможным довольно корректно, хотя и критически, проанализировать позицию Аристотеля в отношении сочетания души и ума: «он и сам, когда давал определение уму, все же заявил, как о другой его разновидности, о божественном Уме, который потом, показав бесстрастным, отделил от общности с душой». И далее апологет приводит точку зрения философа на страдания: «Ведь Аристотель и чувства делает страданиями. Разве нет? Ведь и чувствовать значит страдать, так как страдать значит чувствовать. Также и быть рассудительным значит чувствовать, и двигаться значит чувствовать. Таким образом, всё значит страдать»45. Тертуллиан здесь соглашается с Аристотелем, но ниже возражает ему в том, что и ум, вопреки Аристотелю, подвержен страданию, потому что, по мнению апологета, «ум так сросся с душой, что он — не сущностно иной, но свойство сущности»46.
Тертуллиан солидаризируется с Аристотелем и некоторыми другими философами в несогласии с тем, что перипатетик Дикеарх47, а также врачи Андрей и Асклепиад устранили ведущее начало души, утверждая, что чувства находятся в самом уме. Подтверждение некоторых других своих мыслей Тертуллиан также находит у Аристотеля, например, о неразумности деревьев48, или ссылаясь на него в своих рассуждениях о том, что не существует душ, свободных от сновидений49, хотя некоторые рассуждения Аристотеля о сне и сновидениях вызывают у него возражения. Тертуллиан констатирует, что Аристотель, считая большую часть сновидений лживыми, признает в них и правду50, и это служит апологету поводом для того, чтобы высмеять толкователей сновидений, включая перипатетика Кратиппа. В подтверждение своей насмешки Тертуллиан восклицает: «Аристотель, извини смеющегося»51.
В III в. христианская мысль развивается и в направлениях, вообще не соприкасающихся с античной философией. Примером может служить знаменитый ученик Тертуллиана св. Киприан Карфагенский (ок. 200– 258), который в проработанных мною 14 трактатах и 66 письмах вообще не упоминает Аристотеля, слово «перипатетики» встречается в этих трудах лишь один раз, и даже столь часто фигурирующий в творчестве Тертуллиана Платон удостаивается его внимания лишь единожды.
Зато в творчестве выдающихся представителей Александрийской школы Климента и Оригена проблема соотношения веры и знания, философии и религии была центральной52.
Климент (ок. 150 — ок. 215) сумел в своих произведениях открыть и утвердить многие философские положения, которые впоследствии были унаследованы христианскими теологами53. Следует отметить, что из всех рассмотренных христианских авторов Климент больше других упоминает Аристотеля и перипатетиков, и их совокупное соотношение с Платоном и платониками составляет у него 1 к 3,6. Климент обращается к Аристотелю чаще всего для подтверждения своих мыслей, только ссылаясь на философа, и лишь временами полемизирует с ним54. Так, критикуя софистику, Климент со ссылкой на Аристотеля говорит, что «софистика есть плутовское искусство55, поскольку мошеннически выдает себя за носительницу высшей учености и присваивает себе знание тех самых наук, изучением которых не только никогда не занималась, но и прямо пренебрегала»56. Ниже Климент уточняет, что эта мысль Стагирита соответствует Писанию57. Касаясь вопроса о вере, без которой «невозможно ни знание, ни научение», Климент тоже ссылается на философа: «Аристотель говорит, что вера — это научное суждение, утверждающее, что нечто является истиной. Следовательно, вера важнее, нежели знание, и является его критерием»58.
Как и многие другие христианские мыслители, увлеченные античной философией, Климент пытался доказать ее вторичность по отношению к Ветхому Завету. Одним из основных аргументов он считает то, что «эллинские мудрецы» жили позже Моисея и, следовательно, заимствовали свои основные идеи у евреев, порой намеренно запутывая их59. В обоснование заимствований Климент приводит имена философов, имевших неэллинское происхождение, включая, например, некоего еврея, который учился у Аристотеля60. Описывая создание философских школ, включая Аристотеля и перипатетиков, он делает акцент на том, что из сравнения хронологических данных откроется, что еврейская философия древнее эллинских философских школ на много поколений61. Мысль о заимствованиях звучит у Климента неоднократно: например, что перипатетическая философия заимствована из закона и пророков62 или что сам Аристотель, ограничивая влияние провидения подлунной сферой, следовал псалму: «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков» (Пс 35:6)63.
Интересно сопоставление Климентом закона Моисея с философией. При этом сам закон он называет «Моисеевой философией» и делит ее на четыре части: историческую и законодательную части он соотносит с этикой, третью часть, касающуюся священнодействий, он называет созерцанием видимой природы, а четвертую часть, «которую Платон называет „созерцанием“ поистине великих таинств, а Аристотель же — метафизикой», Климент считает частью богословской64.
Полемизируя с Аристотелем и его учениками, Климент утверждает, что перипатетики, «толкующие о тройственной природе благ65 и считающие злом все им противоположное», находятся в полном согласии с воззрением на те состояния, «которые составляют середину между пороком и добродетелью, каковыми являются, например, бедность, болезнь, дурная слава, низкое происхождение и тому подобное»66. И так как полноту счастья представители школы Аристотеля обусловливают благами материальными, телесными и душевными, соответственно, «человек бедный, безвестный, слабого здоровья или осужденный на жизнь в рабстве, по мнению философов этой школы, не может быть счастливым»67.
Климент приводит мнения различных философских школ о смысле человеческой жизни, и среди них также фигурируют последователи Аристотеля — перипатетики Иероним, Диодор, Лик, Критолай. Так, Иероним считал целью человеческой жизни безмятежность, а Диодор заявлял, «что цель состоит в том, чтобы прожить благородную и честную жизнь»; «целью же человеческой жизни, — утверждает Климент, — является счастье»68, в то время как последователи Аристотеля считали, что целью является доблестная жизнь69. На это Климент возражает, что «не каждый доблестный человек удостаивается счастья и достигает цели. Мудрец может подвергнуться злым несчастьям или испытать на себе различные превратности судьбы, которые не зависят от его воли. Оказавшись в таком состоянии, он, возможно, сочтет для себя благом даже покинуть эту жизнь. В этом случае его едва ли можно назвать счастливым или благополучным»70. Перечисляя мнения различных философских школ, Климент снова обращается к перипатетикам: «Некоторые говорят, что новейшие академики определяют цель как воздержание от суждений по поводу всего кажущегося. Лик перипатетик считал целью достижение душевной радости. Ликиск же поясняет, что имеется в виду радость по поводу прекрасного. Критолай, также перипатетик, говорит, что совершенной является жизнь, протекающая в соответствии с природными задатками, имея в виду три формы совершенства в соответствии с тремя родами блага»71. В итоге Климент приводит собственное, глубоко христианское по содержанию мнение о цели жизни: «Нам обещано, что мы обязательно достигнем конечной цели, которая обращена в вечность, если будем послушны заповедям, то есть Богу, и жить в соответствии с ними непорочно и со знанием, которое проистекает из постижения божественной воли. Возможно полное уподобление истинному Логосу, надежда на то, что мы станем детьми через Сына Божьего — в этом состоит наша цель»72.
Отмечая, «что для тех, кто порицает философию, принижая значение веры, весьма характерно восхваление несправедливости и представление счастья как жизни в соответствии со своими прихотями»73, Климент называет именно веру «исполнительницей добрых дел и мерилом правильного действия»74 и здесь же ссылается на Аристотеля. Его различение понятий ποιείν (делать), приложимого к неразумным существам и неодушевленным предметам, и πράττειν (действовать), как присущего только человеку75, Климент приводит в качестве назидания тем, кто учит, что Бог — создатель (ποιητής) всего76. Что совершенно, продолжает Климент, является или добрым, или необходимым, а необходимое не есть добровольное. «Следовательно, дурной поступок — это некое добровольное действие, поскольку он не определяется никакой необходимой причиной. Поэтому добрые от злых отличаются наклонностями и благими пожеланиями77. Всякий же душевный порок связан с невоздержанностью, и всякий, действующий в соответствии со своим вожделением, действует в меру своей невоздержанности и порочности»78. Отсюда следует христианский вывод, соединенный с философской методологией: «Для спасения, следовательно, необходимо постичь истину, открытую Христом, даже если для этого понадобятся методы греческой филосо-фии»79. По убеждению Климента, «интуиция единого всемогущего Бога всегда естественным путем присутствовала в душах благомыслящих людей»80, в ряду которых он называет и Стагирита: «Поэтому и пифагорейцы говорят, что разум в человеке присутствует по божественному уделу, и в этом с ними согласны Платон и Аристотель»81.
Интересно, что даже материализм Аристотеля удостаивается у Климента не резких нападок, а всего лишь мягкого укора: «многие из философов, те же стоики, Платон, Пифагор и, тем более, Аристотель перипатетик считают материю одним из первоначал, будучи не в силах, видимо, ограничиться единым первоначалом. То, что они именуют материей, рассматривается ими как нечто бескачественное и бесформенное»82. «Стоит ли говорить, — задает риторический вопрос Климент, — что именно слова пророка „земля была безвидна и неустроенна“ (Быт 1:2) внушили им мысль о бесформенной материальной сущности?»83 Таким образом, он снова возвращается к мысли о заимствовании философами своих идей из Священного Писания.
Ориген (ок. 185 — ок. 254) обращается к античному философскому наследию в своем апологетическом сочинении «Против Цельса», хотя использует без ссылок и упоминаний имен мысли философов и в других своих произведениях, даже в комментариях на Священное Писание. Например, в Комментарии на Евангелие от Иоанна он использует стоические формулировки традиционного выделения четырех причин, восходящего к Аристотелю84. В полемике с критиком христианства Цель-сом Ориген нередко ссылается на Аристотеля и его продолжателей85, при этом, как это и предполагается апологетическим жанром, это обращение подразумевает не столько анализ и полемику, сколько критику.
Перечисляя особенности различных философских школ, Ориген характеризует перипатетическую как потворствующую людским слабостям и снисходительнее прочих школ относящуюся к обычному людскому представлению о благах жизни86. Ориген отмечает, что философские школы находятся отнюдь не в доброжелательных отношениях: «платоник, верующий в бессмертие души и в сказания об ее переселении из одного тела в другое, допускает глупость, как это выходит с точки зрения стоиков, перипатетиков и эпикурейцев: стоиков потому, что они осмеивают подобное положение; перипатетиков потому, что они вышучивают все эти разглагольствования Платона; эпикурейцев потому, что они обвиняют в суеверии тех, которые вводят [веру в] Промысел и признают Бога мироправителя»87. К тому же перипатетики вместе с эпикурейцами заслуживали наказания от правителей, потому что «ни во что ставили молитвы и жертвы, предлагаемые божеству»88.
Особое негодование Оригена вызывает позиция Аристотеля и других философов по отношению к Провидению в связи с полемикой относительно утверждения Цельса, что Моисей перенял учение о миротворении «у мудрых народов и ученых мужей». «Как хорошо бы было, — восклицает Ориген, — если бы и Эпикур, а также Аристотель, еще более нечестивый сравнительно с первым в решении вопроса о Провидении, если бы стоики, допускающие телесность Бога, переняли это учение: тогда и мир не был бы преисполнен таким учением, которое совершенно отвергает Провидение или допускает его с ограничениями, или же [в качестве первовещества] вводит телесное и тленное начало»89. О том, что перипатетики отвергают Промысл Божий «по отношению к нам и вообще всякое отношение Божества к людям», Ориген говорит и в другом месте90. Высказывает он свое возражение также и по поводу взглядов Аристотеля и перипатетиков на стихии, из которых состоит мир91.
Подчеркивая различия в мировоззрении античных философов, Ориген ссылается на Аристотеля, отмечая, что тот не стал последователем Платона, «осудил его учение о бессмертии души и его идеи назвал пустыми мечтами», а также, что Аристотель «оказался лукавым и неблагодарным по отношению к своему учителю»92.
Ориген упоминает Аристотеля также в связи со взглядами философов на природу и происхождение имен, отмечая, что Стагирит стремился познать значение и смысл имен через исследование природы вещей. Возражая этому и другим взглядам философов на проблему, Ориген утверждает, что «имена, которые еврейское предание хранит с большим уважением, имеют в своем основании не случайные и тварные вещи, но некоторое таинственное богословие, возводящее [дух человека] к Творцу Вселенной»93.
Говоря об упреке, высказанном иудеем Иисусу94, Ориген передает эпизод из жизни Аристотеля, чтобы показать его атеизм: «Мы должны сказать, что подобное поведение, которое в данном случае ставит в упрек Иисусу и его ученикам, судя по рассказам, было присуще также Аристотелю. Когда он заметил, что его стараются обвинить как хулителя богов, ввиду некоторых положений его учения, которые считались у афинян безбожными, он оставил Афины и перенес свою школу в Халкиду. Это удаление он оправдывал перед своими приближенными, говоря так: „Уйдем из Афин, чтобы не дать повода афинянам повторить преступление, подобное тому, какое они совершили против Сократа, чтобы вторично они не учинили беззаконие против философии“»95.
В современных исследованиях предпринимаются попытки найти параллели с Аристотелем в некоторых аспектах учения Оригена. Например, у Оригена встречается понимание Бога как ума96, что соответствует одному из фрагментов из Аристотеля. Учение Оригена о соотношении бессмертного человеческого ума97 и тела, которым он пользуется как ин-струментом98, соотносимо с учением Аристотеля об «органическом» теле, энтелехией которого является душа99.
Канун легализации христианства отмечен на Западе деятельностью двух латинских апологетов — Арнобия и Лактанция, творчество которых можно считать заключительным этапом доникейской патристики.
Ритор Арнобий, обратившись в христианство около 300 г., по просьбе епископа в подтверждение прочности своей веры написал трактат «Против язычников». Несмотря на глубокое знание античной культуры, Арнобий не очень часто обращается к античной философии, а Аристотеля упоминает всего лишь дважды. Вначале он говорит о пятом элементе, присоединяемом, по Аристотелю, которого апологет называет «отцом перипатетиков», к первоначальным основам100, а затем дает очень высокую оценку философу, как человеку «исключительных дарований и необычайной учености»101.
Ученик Арнобия Лактанций (ок. 250 — ок. 325), которого за красноречие прозвали «христианским Цицероном», в своих богословских произведениях часто обращался к философским темам и, продолжая апологетический жанр, полемизировал с античными мыслителями, включая Аристотеля, которого, как и перипатетиков, он упоминает значительно чаще, чем его учитель, и которого называет в ряду «родоначальников великих школ»102. Характерной чертой Лактанция также можно считать обращение к авторитету философов для подтверждения или иллюстрации своих собственных мнений.
Наблюдение относительно человеческой природы Лактанций заимствует у Аристоксена (IV в. до Р. Х.), ученика Аристотеля, и высказывает ему свое возражение, считая противоречащим истине утверждение, «будто нет никакого разумного начала вообще, но из самого строения тела и соединений внутренностей возникает сила чувственности подобно тому, как в кифаре рождается гармония [звука]»103. Останавливаясь на позиции Аристоксена, апологет говорит об отрицании им ума или разумного начала, а в своем другом труде «Божественные установления» на тех же основаниях он говорит об отрицании Аристоксеном души104.
Гнев как свойство человеческой природы Лактанций анализирует с этической точки зрения и говорит о мнении перипатетиков, что его следует не исключать, а обуздывать. Апологет приводит определение гнева, данное Аристотелем, замечая, что оно «мало отличается от нашего, ибо он говорит, что гнев — это желание воздать болью за боль»105. Говоря о справедливости, Лактанций ссылается на Платона и Аристотеля, что они превозносили «ее как истину и добродетель, достойную высшей славы, так как она воздает каждому свое и сохраняет равенство между всеми». Сам же он называет справедливость единственной добродетелью, «которая не замкнута в себе и не сокрыта, но обнаруживает себя целиком и склонна к благим деяниям ради того, чтобы приносить как можно большую пользу»106.
Лактанций порой ищет у античных философов подтверждение своей христианской позиции, включая понимание Бога как причины вещей, Его непостижимости умом и невыразимости словами. Про Аристотеля и перипатетиков в этой связи Лактанций говорит, что они утверждают почти то же самое107. Ссылаясь на единобожие Платона, Лактанций обращается и к авторитету Стагирита: «Аристотель, его ученик, признает существование единого разума, правящего миром»108. Приводя мнения и других философов (Сенеки, Зенона, Цицерона), апологет заключает: «Ведь все они пытались определить, что собой представляет Бог, и утверждали, что Он один правит миром и что Он не подчиняется природе, так как вся природа создана Им Самим»109.
Произведения Лактанция содержат и немало возражений античным мыслителям. Например, он говорит, что «даже Аристотель был далек от разумного суждения, когда он связал вместе достоинство и добродетель, как будто бы добродетель когда-нибудь была отделена от достоинства или могла быть соединена с позором»110. Рассуждая о высшем благе, Лактанций возражает перипатетикам, которые выводили высшее благо из блага души, тела и фортуны. Принимая тезис о благах души, апологет утверждает, что блага тела или фортуны не зависят от человека: «К тому же не является высшим благом то, что относится к телу или зависит от чего-то внешнего, ибо такое двойное благо может быть отнесено и к скоту, которому необходимо как обладать здоровьем, так и не иметь нужды в корме»111. Еще одно возражение перипатетикам касается их позиции по поводу необходимости умерять страсти. По мнению Лактан-ция, страсти (гнев, жадность и вожделение) не могут быть умерены, «ибо если они являются злом, то мы должны воздерживаться от них, даже если они умеренны и незначительны, если же они являются добром, то мы должны пользоваться ими без ограничения»112.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Интерес к Аристотелю и его ученикам в доникейской патристике, несомненно, существовал, но проявляться он стал примерно спустя столетие после возникновения христианства в связи с новыми вызовами, с которыми сталкивалось новая религия к середине II в. по Р. Х. Этот интерес имел устойчивую тенденцию к нарастанию по мере развития христианской мысли и усиления необходимости создания богословской системы, хотя и уступал влиянию Платона на христианских авторов этого периода. Однако все авторы, ссылавшиеся на Аристотеля, безусловно признавали его высочайший авторитет.
Несмотря на широкий спектр оценок отдельных аспектов наследия Аристотеля у христианских авторов второй половины II в. — начала IV в., вряд ли есть основания говорить об антиаристотелизме как явлении в доникейской патристике. Критическое восприятие связано с отдельными взглядами Стагирита, но полное неприятие или отвержение его наследия не имело места113. Скорее, за редкими исключениями, можно констатировать стремление христианских авторов включить Аристотеля в свою систему взглядов, а также их желание подкрепить или обосновать свою позицию ссылками на авторитет великого философа, даже если эти ссылки приводились для обоснования противоположных взглядов114.
Доникейские христианские авторы обращались к разным аспектам наследия Аристотеля и перипатетиков, но, разумеется, в большей степени их интересовали проблемы, имеющие богословский или этический уклон. Вместе с тем, следует отметить и известное внимание к чисто философским и естественнонаучным вопросам. Важно отметить, что в ходе исследования не было выявлено намеренного стремления доникейских христианских авторов исказить или каким-либо образом фальсифицировать учение Аристотеля в своих апологетических целях. Напротив, они старались вести полемику с Аристотелем максимально корректно и в рамках научной этики того времени. Стоит заметить, что такая корректность соблюдалась в значительно меньшей степени, если речь шла о перипатетиках.
В заключение следует отметить, что классическая патристика после Никейского собора 325 г. оказалась еще более восприимчивой к Аристотелю в связи с тринитарным спором115, и усвоение его наследия христианством происходило более основательно по мере разработки богословской системы и христианской философии.