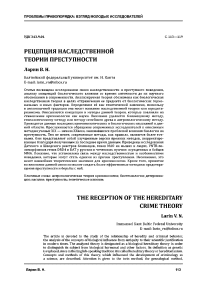Рецепция наследственной теории преступности
Автор: Ларин В.Н.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Проблемы правопорядка: взгляд молодых исследователей
Статья в выпуске: 2 (21), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию связи наследственности и преступного поведения, анализу концепций биологического влияния со времен античности до их научного обоснования в современности. Анализируемая теория обозначена как биологическая наследственная теория в целях отграничения ее предмета от биологических гормональных и иных факторов. Определение её как генетической заменено, поскольку в англоязычной традиции она носит название наследственной теории или хередита-рианизма. Описываются концепции и методы данной теории, которые повлияли на становление криминологии как науки. Внимание уделяется близнецовому методу, генеалогическому методу, или методу семейного древа и антропологическому методу. Приводятся данные последних криминологических и биологических изысканий в данной области. Прослеживается обращение современных исследователей к описанным методам ученых XIX - начала XXвека, занимавшихся проблемой влияния биологии на преступность. Тем не менее, современные методы, как правило, являются более точными. Они представляют собой улучшенные версии прежних методов, скорректированные благодаря полученным за последнее время данным. Приведены исследования Датского и Шведского реестров близнецов, генов MAO на мышах и людях, VNTR-полиморфизмов генов DRD4 и DAT у русских и чеченских мужчин: осужденных и бойцов MMA. Показано, что установлена связь между наследственностью и особенностями поведения, которые могут стать одними из причин преступления. Несомненно, это несет важнейшее теоретическое значение для криминологии. Кроме того, принятие во внимание данной связи позволит создать более эффективные методики предотвращения преступности и борьбы с ней.
Антропологическая теория криминологии, биотехнологии, детерминация, насилие, преступность, генетическое влияние
Короткий адрес: https://sciup.org/14119469
IDR: 14119469 | УДК: 343.9.01
Текст научной статьи Рецепция наследственной теории преступности
Связь между наследственностью и склонностью к преступному поведению является одной из наиболее политизированных и дискуссионных проблем современной науки в целом. В решении данного вопроса сходятся такие науки и дисциплины, как генетика, социология, медицина, психиатрия, психология, нейроморфология и криминология, задача которой состоит, в том числе, в окончательном оформлении данных, полученных вышеупомянутыми науками в конечную теорию. Имея продолжительную историю, концепция о связи наследственности и преступности, получившая развитие в работах ученых прошлых веков, дискредитирована своей методологией и порой даже обозначается как лженаука наряду с френологией [24, с. 72—75]. Однако, имеющиеся данные говорят, что подобная стигматизация является в корне неверной, а значит рассмотрение поставленной проблемы с позиций современной науки имеют ключевое значение для дальнейшего развития криминологии. Особенно, с учетом того, что внимание к биологическим аспектам детерминации преступности на данный момент незначительно [3, с. 224].
Целью настоящей статьи является установление связи между биологическими наследственными факторами и преступным поведением с опорой на привлекаемые научные открытия современности в таких дисциплинах, как биология, генетика, физиология и др., а также анализ биологической наследственной теории криминологии в ее развитии.
В отношении анализируемой концепции применяется термин «наследственная теория», «биологическая наследственная теория» с целью отграничения от других криминологических концепций, которые связывают преступность с биологическими факторами, не являющимися наследуемыми.
Идеи о связи наследственности с поведенческими качествами появились назаре истории. В Древней Элладе существовало даже особое эстетико-этическое понятие — «калогакатия», которое обозначало нерушимую связь между красотой, нравственностью и другими хорошими качествами [5, с. 100]. По этим причинам в Спартанском государстве согласно Плутарху тех детей, которых по определенным критериям старейшины признавали неполноценным, лишали жизни — сбрасывали в пропасть [9, с. 59]. Знаменитый античный философ Платон, вдохновлявшийся, в том числе, спартанскими законами и обычаями, изложил свои взгляды в форме мифа, который рекомендовал для научения сословия стражей. Согласно этому мифу, в способных править, бог «примешал при рождении золота, и поэтому они наиболее ценны, в помощников их — серебра, железа же и меди — в земледельцев и разных ремесленников» (Государство, кн. III, 415 Ь) [8, с. 220]. Также греческий мыслитель не раз упоминал о природных задатках и, более того, полагал, что у человека есть врожденные знания: «Просвещенность — это совсем не то, что утверждают о ней некоторые лица, заявляющие, будто в душе у человека нет знания и они его туда вкладывают, вроде того как вложили бы в слепые глаза зрение» (Государство, кн. VII, 518 с) [8, с. 354].
С появлением науки криминологии и разработкой антропологической теории концепция о связи наследственности и преступности получила свое развитие в трудах знаменитого еврейского врача из Италии Чезаре Ломброзо. Ломброзо, применяя антропологические методы, и селе до-вал заключенных, как живых, так и мертвых и пришел к выводу о существовании криминального типа, характеризующегося определенными антропометрическими свойствами [7, с. 52—53]. Чезаре Ломброзо был справедливо раскритикован уже современниками за ошибки в методологии и другие огрехи. Однако, именно с него начинается попытка научно обосновать биологическую теорию в криминологии.
Весьма занятный метод семейного древа,или генеалогический, использовал Лотроп Стоддард. Он писал, что при проведении в 1915 году второго исследования рода потомков некоего бродяги с кличкой «Джук» были выявлены «умственная отсталость, праздность, распутство и бесчестность, несмотря на то, что на судьбу членов рода уже не оказывала негативного влияния их дурная семейная репутация, и что они теперь существовали в более хороших социальных условиях», нежели их предок. Род Джуки к моменту исследования включал девять поколений с общей численностью 2820 человек, половина из которых были живы и проживали в разных местах страны. Согласно подсчетам, совокупные расходы государства на этот род в 1915 составляли уже около 2 500 000 долларов [23, с. 95]. Аналогичный метод применял советский генетик Ю. А. Филлипченко, рассматривая потомство содержательницы притона из Англии, многие потомки которой, число которых всего составило 800 человек, оказались преступниками. Приблизительно 700 человек из них подверглись различным наказаниям по суду, 37 были присуждены к смертной казни, 342 были пьяницами, 127 проститутками. «Конечно, во всех отношениях было бы лучше, если бы эта женщина вообще не оставила бы потомства» — заключает генетик, будучи при этом противником негативной евгеники [6, с. 272].
Крайне важный по настоящее время близнецовый метод предложил английский ученый и евгеник, двоюродный брат Чарльза Дарвина, сэр Фрэнсис Гальтон, основатель традиции «Лондонской школы» психологии. Он первым изучал влияние наследственности и воспитания на человека посредством исследования индивидуальных различий у близнецов [17]. Тем не менее, с позиций современности близнецовый метод в таком виде, в каком он был предложен Гальтоном, имеет изъян, поскольку ученому не было известно различие между гомозиготными (однояйцевыми) и гетерозиготными (разнояйцевыми) близнецами.
Однако, перечисленные методы интересны не только с позиции истории науки. В свете последних научных открытий можно говорить о рецепции положений биологической наследственной теории, об обращении к прежним методам и концепциям при условии их улучшения. Но, к сожалению, не все положения, которые подверглись переоценке, достаточно полно разработаны применительно к криминологии.
На данный момент актуальна многофакторная генетическая модель полигенного контроля с порогом, исходя из которой, по мнению Джона Филлипа Раштона, приблизительно 50 процентов вариации социального поведения, в том числе преступного, определяется наследственностью, и 50 процентов определяется средой. В результате, речь идет не о генетическом детерминизме, но о генетическом влиянии. Суть генетической модели полигенного контроля с порогом заключается в том, что большое число генов дают равные и аддитивные вклады в развитие признака, и что имеется пороговая точка, за которой происходит экспрессия фенотипа [10, с. 107—108]. Помимо генетических факторов смещать распределение, влияя на порог проявления данного генотипа, могут средовые влияния [16]. Но даже в таком виде наследственная модель не принимается некоторыми учеными, и на данный момент ведутся научные дебаты между сторонниками двух подходов. Первым является выше обозначенный подход. Второй подход является ортодоксальной средовой концепцией, которая проистекает, в том числе, из ошибочного и устаревшего представления Жана Батиста Ламарка об идентичности мозгау всехлюдей.
Несомненно, наиболее практичным было бы возвращение антропологического метода, если бы его суть отвечала критериям современной науки. В новой статье в Scientific Reports сообщается, что американские генетики нашли связь между неандертальским наследием в генотипе, строением черепа и строением мозга [18]. Наибольшая зависимость формы черепа от неандертальского генетического вклада обнаружилась в области лямбдовидного шва, затрагивая затылочную и теменную кость; зависимость строения мозга обнаружилась в области внутритеменной борозды и первичной зрительной коры. Эти области подверглись заметной эволюции в линии гоминид и отвечают за обработку визуально-пространственной информации. Известно, что развитие внутри теменной борозды напрямую связано со способностью к орудийной деятельности у человека, и влияет на распознавание намерений других людей [15] и способность к математическим вычислениям [12]. В приведённом исследовании участвовали только европейцы, и авторы полагают важным провести аналогичный анализ восточно-азиатских популяций, у которых, согласно данным генетиков, неандертальская примесь выше, а также африканцев (у них примеси практически нет) [11]. Данное исследование, к сожалению, не так важно для прикладной криминологии, но в то же время несет невероятную теоретическую ценность. Подобные факты о связи строения черепа со строением мозга и теми качественными особенностями, которыми обладает человек, позволяют под иным углом взглянуть на главный тезис Чезаре Ломброзо о зависимости качественных особенностей людей от черепных характеристик. Дальнейшие изыскания в этой области позволят установить, является ли данный тезис верным и для иных особенностей, имеющих значение для криминологии.
Также современное исследование, проведенное в 2016 году, в котором сравнению подверглись фотографии лиц со времен 1856 года по современность, показало, что совокупность уголовных и совокупность неуголовных лиц отличаются по признаку многообразия. У неуголовных лиц в среднем меньше многообразия, они имеют меньше расхождений между собой и приближаются к среднему типу, в то время как преступники обладают высокой степенью несходства по внешности, а также по целому ряду параметров, демонстрируя разброс черт [26]. Очевидно, что объяснение этим фактам лежит прежде всего в области наследственности.
Несомненно, что для практического применения в криминологии, указанных исследований явно недостаточно. Тем не менее, они показывают, что тезис о связи фенотипа и качественных особенностей человека, в том числе связанных с преступной деятельностью, не является лженаучным и, опираясь на него, можно в будущем строить научные криминологические концепции.
Близнецовый метод, применённый Фрэнсисом Гальтоном, также не остался незамеченным как в науке XX века, так и XXI. Исследование однояйцовых близнецов, воспитанных раздельно, и людей, не являющихся родственниками, воспитанных совместно, показало корреляцию между генами и криминальным поведением [20; 21]. Подробное изучение пар однояйцевых близнецов-преступников показывает, что они сходны даже по характеру преступления [1]. В весьма крупном исследовании, которое базируется на выборке из 3586 близнецов из Датского Реестра Близнецов, было установлено, что вероятность общего криминального поведения у однояйцовых близнецов равна 50%, а у разнояйцевых близнецов — 21 % [25, с. 94]. Более новое исследование 2015 года, проведенное в Швеции и основанное на выборке из 21 603 пар близнецов.
показывает, что криминальное поведение близнецов зависит в существенной степени от генетических факторов, а также от условий семьи [19]. Также из научной работы следует, что, возможно, некоторые генетические и средовые риски для мужчин и женщин уникальны. Насильственное преступное поведение и имущественные преступления в значительной степени зависят от генетических и средовых факторов, присущих только этому преступному поведению. В результате, на основании приведенных исследований с использованием близнецового метода, можно сделать вывод о высокой степени влияния наследственности на преступное поведение.
Следует также обратиться и к современным исследованиям в области генетики с применением других методов. В данном случае, речь идет в том числе о генеалогическом методе, благодаря которому в конце восьмидесятых годов была изучена одна голландская семья. За членами данной семьи числились многие случаи хулиганства, что и позволило сделать вывод о необходимости исследования именно этой семьи. В результате были обнаружены гены, управляющие выработкой энзимов под названием моно-аминоксидазы, или МАО [13, с. 578—580]. Дальнейшее исследование в данном направление, произведенное на мышах во Франции, выявило, что аналогичный дефект в генах, управляющих синтезом МАО, вел к крайней агрессивности у мышей [24 с. 291—294]. Недавние научные работы в данной области подтвердили возможную связь между моно-аминоксидазой и агрессивным поведением у мужчин [22].
В 2017 году российские учёные исследовали VNTR-полиморфизмы генов DRD4 и DAT у русских и чеченских мужчин, осужденных за преступления, а также у контрольных групп, состоящих из бойцов ММА, у которых не было зафиксировано антиобщественного поведения, и выборки населения в целом [14]. В результате удалось выяснить, что ген DRD4 более распространен среди лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Носители гена 9/9 DAT чаще встречаются среди обычных преступников. Частота сочетания генов DRD4 4/7 и DAT 10/10 явно выше среди осужденных за насильственные преступления и бойцов ММА. В результате, можно предположить у бойцов ММА наличие «контролируемой агрессии» без предрасположенности к патологическому насилию. Согласно заключению авторов исследования, их работа
«подтверждает гипотезу о генетической предрасположенности к различным вариантам экстремального поведения, опосредованным генетическими детерминантами».
В пользу этой гипотезы говорит и связь преступного поведения с существенными генетическими аномалиями. Например, с синдромом Клайнфейтера (Х-дисомии), который, в свою очередь, обусловлен дополнительной половой Х-хромосомой (кариотип 47, XXY); с синдромом Жакоба (синдром «дубль-Y», или Y-дисомии), который связан с дополнительной половой Y-хромосомой (кариотип 47, XYY). Дополнительная Y-xpo-мосома в связи с ее исследованием в 1965 г. на 197 умственно отсталых преступниках, проведенным Р. А. Джекобе, была связана с определенной предрасположенностью к совершению преступлений и повышенной агрессивностью [2; 4, с. 163]. Синдром Жакобау мужчин проявляется в более маскулинном поведении, повышенной агрессии и высоком росте. Синдром Клайнфельтера, напротив, проявляется у мужчин в более феминном поведении, умственной заторможенности, евнухоподобном сложении тела.
Наследственное влияние является, таким образом, весьма важным фактором в возникновении преступности. Но следует отметить, что представление о генетическом вкладе в преступность, рассмотренное как в историческом развитии, так и в фокусе современных наук, не исключает дополнительного влияния среды. Представленные в данной работе факты и их интерпретации говорят о рецепции наследственной концепции в криминологии, благодаря которой удастся взглянуть под старым углом на новые практические проблемы и пути их решения. Положения, лежащие в основе данной теории, уже нашли подтверждение в современных научных работах, и ни в коем случае нельзя из идеологических или каких-либо других причин отказываться от совершенно разносторонних возможностей практического применения описанной концепции в целях уменьшения криминогенных факторов или их смягчения.
Список литературы Рецепция наследственной теории преступности
- Аруцев, А. А. Концепция современного естествознания / А. А. Аруцев, Б. В. Ермолаев, Л. О. Кутателадзе, М. С. Слуцкий. - М.: Изд-во МГОУ, 1999. - 453 с.
- Дубинин, Н. П. Генетика, поведение, ответственность. О природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения / Н. П. Дубинин, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев. - М.: Политиздат, 1982. - 304 c.
- Игнатов, А. Н. Биологические факторы детерминации насильственной преступности / А. Н. Игнатов // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2015. - Т. 9. № 2. - С. 223-233.
- Кумарин, В. Биологический риск злодейства (дефекты в генах могут спровоцировать преступное поведение личности) / В. Кумарин // Семья и школа. - 1996. - № 8. - С. 31-33.
- Лосев, А. Ф. История эстетических категорий / А. Ф. Лосев, В. П. Шестаков // История эстетических категорий. - М.: Искусство, 1965. - 376 с.