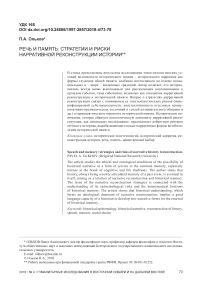Речь и память: стратегии и риски нарративной реконструкции истории
Автор: Ольхов Павел Анатольевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Теоретическое измерение общества
Статья в выпуске: 4 (46), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследования этико-онтологических условий возможности исторического знания - исторического нарратива как формы служения общей памяти, особенно интенсивного на изломе познавательных и - шире - жизненных традиций. Автор полагает, что история, являясь всегда вновь высказанным или рассказанным воспоминанием о прошлом событии, сама событийна, возникает как отношение нарративной реконструкции и исторической памяти. Вопрос о стратегиях нарративной реконструкции связан с пониманием ее эпистемологических рисков (неверифицируемой субстанциальности, констеллятивности отдельных коммуникативно-прагматических состояний и стилей познавательного общения и др.) и герменевтического горизонта исторической памяти. Историческое понимание, которое образует онтологическую доминанту нарративной реконструкции, как показывает исследование, предполагает добротную речевую личность историка, вырабатывающего новые нарративные формы возобновления исторической памяти.
Историческая эпистемология, исторический нарратив, реконструкция истории, речь, память, нравственный выбор
Короткий адрес: https://sciup.org/170175878
IDR: 170175878 | УДК: 165 | DOI: 10.24866/1997-2857/2018-4/73-78
Текст научной статьи Речь и память: стратегии и риски нарративной реконструкции истории
Историк – это врач памяти.
О. Розеншток-Хюсси [11, с. 563]
Исторический нарратив – повествование-письмо, восстанавливаемая до некоторой полноты речевой фактичности память о том, что произошло в прошлом и было замечено, засвидетельствовано участниками этого происшествия и вновь представлено автором повествования-письма. Если оставить в стороне мотивы эпистемологического выживания, которые как будто вынуждают смириться перед нарративом как некоей неизбежно нечистой, субъектно центрированной познавательной реальностью в эпоху краха исторических эпистемологий, когда «нельзя предложить никакой приемлемой теории» [11, с. 8], исторический нарратив может быть понят как вполне конкретная форма служения общей памяти (особенно интенсивного на изломе жизненных традиций, когда память утрачивает единство, рассеивается (см., напр.: [11, с. 91–132; 12]; ср.: [12, с. 557–573] и др.). Писать, высказываться о прошлом в рамках некоей новой речевой связности никогда не означало возможность чистой репродукции прошлого из того, что вспоминается о нем.
Связность исторического нарратива можно представить как превращенную, риторическую форму его субъектности; но чаще и прежде всего в истории исторического нарратива эта связность давала себя знать этически, как некая решимость историка трактовать и представлять памятное в его насущной жизненности. Даже тогда, когда историческая наука пыталась идти в такт классическому естествознанию, соблюдать интерсубъективную размерность и «понимаемость» естественнонаучного письма, отвергавшего «темные дали и загадочные глубины» [9, с. 62], – рассказывать историю такой, какой она была в действительности [2, p. IV], эти попытки и эти рассказы консолидировали стремление историков соблюдать гармонию жизненных традиций и полноту исторической памяти через ее нравственное узаконение, этико-онтологические оговорки. Эти оговорки, разрушающие декларируемую нейтральность научно ориентированного исторического повествования-письма, особенно хорошо заметны у историков, принадлежавших ХІХ в., «золотому» столетию исторического нарратива, оцельняю-щего память. Таков патриарх немецкой историографии Л. Ранке, стремившийся услышать «напевы истории» или называющий свои труды «рапсодиями», полагая, что «совокупность христианских народов Европы должно рассматри- вать как нечто целое, как единое государство» [13, c. 77], (ср. [13, c. 6–8, 88, 90, 188–192 и др.; 21, с. 67]). Таков Ф. де Куланж, о нравственном пристрастии которого к коллективной, «народной» памяти известно ничуть не менее его критической страсти по отношению к документам истории, выравниваемым в речевом целом его собственного нарратива [1, p. 1–16, 133, 161]. Этически императивна сама установка исторического нарратива – писать sine ira et studio, «энтомологически», как об этом с иносказательной яркостью пишет И. Тэн. Возражая нравственно мятежным нарративам Т. Карлейля, Тэн утверждает, что Карлейль «сливает все направления, мешает все формы… и языческие воззрения, и выдержки из Библии, немецкие абстракции и технические выражения, поэзию и воровской язык, математику и психологию, вышедшие из употребления слова и неологизмы» [17, с. 168] (ср.: [18]).
Риски нарративной реконструкции – вплоть до угрозы утраты единства истории как некоторой неверифицируемой субстанциальности в мышлении, или представление об этом единстве как некоторой совокупности отдельных коммуникативно-прагматических состояний и стилей познавательного общения, – вопрос вполне ясный, всесторонне разобранный с позиций эпистемологической искренности. Но именно в этом своем качестве он принимает этико-онтологический вид – становится вопросом о доверии к речевой фактичности исторического нарратива . То, что речевая пластика исторических повествований не бесцельна и имеет свои жизненные смыслы, – отнюдь не новость. Уже фукидидовская «риторика – это не только украшения. Она представляет собой великое открытие Фукидида. Весь наш современный научный аппарат – не что иное, как эволюция его речей» [15, с. 562]. Новостью становится, пожалуй, возможность исследования познавательных ресурсов речевой пластики – различение исторического нарратива в его диалогически-хоро-вой (как мог бы сказать М.М. Бахтин) незавершенности и предназначенности, нравственно существенной неподрасчетности оснований исторического повествования-письма и соединяющейся в нем памяти о насущном.
История, являясь всегда вновь высказанным или рассказанным воспоминанием о прошлом событии, как нарратив сама событийна – в меру речевой обращенности к этому прошлому, которое возникает перед ним как некоторое открытое целое речевых же свидетельств. Но пола- гать историю как некое нарративное целое есть риск – не столько эпистемологический (эпистемологически, нарративность истории можно релятивизовать, взять в некие культурологические скобки), сколько экзистенциальный, – риск довериться этому целому в онтологическом моменте его признания или, негативно, решительной его «критики». Но даже «приемы исторической критики, порою кажущиеся наивному уму чем-то неумолимо логичным, на деле так же основаны на вере, как и убеждения верующего сердца. В сущности, не приемы различны, – они одинаковы, ибо одинаково устроение ума человеческого, – а различны веры, лежащие в основе тех и других… И согласно вере своей, каждый говорит...» [19, c. 551] (ср.: [10, с. 139–140].
Исторический нарратив нельзя свести к некоей когнитивной вере; менее всего – к утверждению о теологической церемониальности исторического письма. Церемониальность вполне может обессмыслить нарратив как практику речевого служения, превратить его в ква-зицерковное самоповествование, безразличное к своей собственно нарративной содержательности. Между тем, прибегать к нарративу с экзистенциальной безоглядностью, пренебрегая исследованием его предельных условий, означало бы умаление его реконструктивных возможностей – до поверхностно коммуникативных, не затрагивающих его смысловой жизненности. В каждой новой нарративной реконструкции историк может обнаружить не только условие когнитивной веры, но и недовоплощен-ную истинность реконструируемого исторического события, – оспаривает подлинность исторических документов, распределяя их в некоем этическом горизонте правды их пересказа, подразумевая под правдой «не логическую мысль, мысль строгую, бесстрастную, безмятежную, но и безнадежную», «а нравственное чувство, то чувство, благодаря которому каждый из нас радуется чужой радостью, скорбит чужой печалью, то чувство, благодаря которому он не только рассматривает свою жизнь как субъективное патологическое явление, не только возвышается до объективного ее изучения, но ею участвует и в окружающей его жизни… если мы взглянем на себя, как на участников в мировой жизни, не человеческой только, но именно мировой, – тогда получим значение и станем на свое место. А между тем, занять такое место человек может лишь тогда, когда станет служителем начала добра и правды, когда подчинится взаимодействию этих начал» [8, c. 64–65].
Доверие к историческому нарративу, поставленному на службу памяти, вполне опасно. Эпистемологическая критика несовершенства памяти – ради служения ей – есть технический момент исторического нарратива, который стремится преодолеть, положительно изжить как распад памяти, так и незабываемое в ней. Ошибка думать, будто укрепление памяти, всего вспоминаемого, вплоть до обращения к разного рода клиометрическим процедурам радикально улучшает нарративную реконструкцию истории или становится ее основным, недостижимым горизонтом [16]. Память без забвения обременяет историю ничуть не менее, нежели эпистемологически обуженный нарратив, целью которого становится приумножение памяти (ее восполнение и реконструкция до некоторой предполагаемой полноты, которая между тем остается только его техническим условием), или же сопротивление памяти, ее перерождение в новую реальность повествования-письма, в которой историческое понимание как будто начинается заново (как в известном случае О. Шпенглера, автора «истории без памяти» [15, с. 564; 14, с. 97; 4, с. 51]).
Уяснение условий возможности служения исторической памяти требует иного – понимания того нравственного выбора , который был сделан историком, вырабатывающим новые нарративные формы ее возобновления. От этого выбора зависит, будет ли историк стремиться к антикваризации истории, конструированию нарративов – новых схем и сюжетов исследовательско-исторических повествований, продумывая логику нарративной репрезентации и т. п., или же квалифицирует эти стремления как процедурные, как некоторую необходимую составляющую исторической реконструкции , которая никак не исчерпывает ни замысла, ни предметных перспектив исторического исследования. История начинается там, где принимается решение о мере участия историка в предмете своего познавательного интереса. Историческая память нарративно воссоединяется тогда, когда происходит избрание позиции исследовательского ответа по отношению к речевой реальности памяти, когда соблюдение принципа sine ira et studio, познавательной беспристрастности («исчисляемой» или критически верифицируемой), – оказывается отнюдь не самым трудным.
Актуальная нарративная историография совершает, как представляется, этико-онтологический поворот, восполняющий ее эпистемологическое достоинство: от различных дилемм объективации субъектно центрированного исторического исследования (включая «старый вопрос, поставленный вновь» – о существовании морального прогресса истории [12, с. 650]) к проблеме точного исторического свидетельства, в котором основным условием исторической достоверности будет добротная речевая личность самого историка, не изобретающего имена или категории истории, но готового к заботе о них. Историческое письмо-повествование очень мало нуждается в отстаивании своей «научности» при помощи «стерильной теоретико-познавательной проблематики» [6, с. 116], или точнее – в производстве новых «метаноми-ческих» догм и схем, которые становятся – в ситуации неизмеримости онтологического, его несводимости к новым именам и генерализациям истории, «якобинским схемам» «общественного прогресса и самодеятельного человека» [15, с. 565] – скорее хранителями исторической памяти, нежели непререкаемыми условиями жизненности исторического нарратива. Их выбор, разумеется, не случаен; это не выбор, который делается на рынке политических идеологий, из неких незамысловатых соображений коммерческой выгоды; их избирают, скорее, как неких новых ответственных спутников исторического нарратива, новых хранителей исторической памяти [15, с. 566]) – из отчетливого понимания того, что историческое нарратив в силу его речевой определенности предполагает активное и деятельное, предельно личное участие историка в повествовании-письме.
Для исторической памяти нет ничего ценнее «поступающего мышления» [4, с. 54], «поступка-слова» [3, с. 145] историка, который не отрешается от себя и не жертвует безмерно своей личностью, но в меру своей историчности, событийного присутствия в истории исторического познания исполняет свою миссию в речевой «действительности познания и поступка» [5, c. 283, 289] – ответственно присутствует в истории как реальности ненаивного, обращенного и обращаемого слова исторического свидетельства. В этом свидетельстве сказывается не только эпистемологическая определенность или категориальная заданность, но и онтологическая ответность исторического мышления, которое не только и не столько схематично, сколько единственно в своей ответной, незавершимо сплачивающей память речевой полноте. Исторический нарратив не предназначен к эпистемологическому замещению речевой текучести памяти; его собственная определенность избегает срывов в дидактику и врачует память (ср.: [15, с. 563]), дает возможность не только вспомнить нечто прошлое, но и опомниться посреди вспоминаемого «архива эпохи» [20], противостоять неподрасчетной тирании памяти и забвения, их жизненным избыткам, или, иначе, онтологически вспомнить себя. Онтологическая реальность исторического нарратива заметным образом дает себя знать как познавательная, «ме-танонимическая» этика истории – служебное и ответное по отношению к исторической памяти нравственное действие.
Список литературы Речь и память: стратегии и риски нарративной реконструкции истории
- Coulanges, F. de., 1893. Questions historiques. Paris: C. Jullian.
- Ranke, L., 1824. Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber: eine Beylage zu desselben romanischen und germanischen Geschichten. Leipzig; Berlin.
- Бахтин М.М. // Собрание сочинений. Т. 1. М.: Изд-во "Русские словари", 2003. С. 69-264.
- Бахтин М.М. // Собрание сочинений. Т. 1. М.: Изд-во "Русские словари", 2003. С. 7-68.
- Бахтин М.М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества // Собрание сочинений. Т. 1. М.: Изд-во «Русские словари», 2003. С. 265-325.