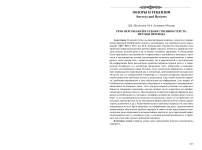Речь персонажей в художественном тексте: методы перевода
Автор: Шулятьева Дина Владимировна, Булавина Марина Арсеньевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Обзоры и рецензии
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В данной статье мы рассматриваем вопросы, поднятые в рамках международной конференции «Книги с разговорами: как переводить речь персонажей» (НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова). Предметом обсуждения стали проблемы перевода различных речевых форм (диалога, монолога, атрибуции диалога, реплик, ролевой речи и др.) в разных языковых традициях. К обсуждению были приглашены исследователи и переводчики с английского, немецкого, японского и скандинавских языков, рассмотревшие заданную проблематику с самых разных точек зрения, как с теоретической, так и практической, и методической. На конференции была рассмотрена проблема перевода прямой речи и в современной литературе, и в литературе прошедших эпох, требующей в некоторых случаях «состаривания» языка. Помимо этого, докладчики обращались к сравнению перевода речи персонажей как в литературе, ориентированной на взрослого читателя, так и в подростковой литературе, и в детской литературе, предполагающей совместное прочтение детьми и родителями. Еще одним аспектом перевода, проблематизированным в ходе обсуждения на конференции, стал вопрос об особенностях перевода ролевой речи (якувариго) в литературных произведениях, написанных на японском языке. Этот тип речи нередко указывает на такие особенности говорящего персонажа, как пол, возраст, на его классовую или профессиональную принадлежность. Исследователи и практики перевода обращали внимание на необходимость учитывать специфику восприятия литературного текста: будет ли он восприниматься визуально или аудиально, будет ли он прочитан или услышан, ориентируется он на письменную форму (проза) или на устную (драматургия, аудиокнига и др.). Рецептивный аспект проблемы перевода так или иначе затрагивался во всех представленных на конференции докладах: перспективным направлением обсуждения проблем перевода в таком случае представляется рассмотрение речи персонажей в интермедийном контексте, речь персонажей может подстраиваться под ту медийную среду, в которой она воспроизводится, и требовать, как следствие, разных принципов перевода.
Перевод, диалог, речь персонажей, монолог, ролевая речь, якувариго
Короткий адрес: https://sciup.org/149139705
IDR: 149139705
Текст научной статьи Речь персонажей в художественном тексте: методы перевода
16 октября 2021 г. состоялась конференция «Книги с разговорами: как переводить речь персонажей», организованная магистерской программой НИУ ВШЭ «Литературное мастерство» совместно с филологическим факультетом МГУ (кафедра теории дискурса и коммуникации). Конференция стала продолжением круглого стола, проведенного в рамках другой международной конференции - «Теории и практики литературного мастерства» (3-4 сентября 2021 г). В фокусе внимания участников конференции, объединившей переводчиков с разных языков, оказалась проблема перевода речи персонажей: исследователи и практики рассматривали возможности «трансфера» из одного языка в другой самых разных речевых форм, диалога, монолога, способов атрибуции, несобственно-прямой речи, как в современной литературе, так и в литературе прошедших эпох, а также в исторической динамике.
Конференция объединила специалистов по переводу с немецкого (А. Берлина), английского языков (О. Варшавер, С. Арестова), а также с 416

японского (Е. Байбикова) и со скандинавских языков (О. Дробот). Исследователи обращались к обсуждению проблем перевода как классических произведений («Мастер и Маргарита»), как правило требующих нового перевода для каждого нового поколения, так и произведений, пока не вошедших в канон, менее известных массовому читателю. Особое внимание было уделено проблемам перевода детской литературы, а также зависимости перевода от формы воспроизведения и восприятия литературного текста: как должен перевод адаптировать оригинальный текст к условиям графического восприятия или к условиям восприятия «на слух» (аудиокниги). Так, обсуждение проблем перевода, хоть и сфокусированное на вполне конкретной проблематике - речи персонажей, не ограничивалось проблематизацией лишь «внутренней формы» литературных произведений, а охватывало гораздо более широкий и проблемный контекст.
Особенностям перевода на немецкий язык классического русскоязычного романа «Мастер и Маргарита» посвятила свой доклад Александра Берлина (PhD, лауреат нескольких премий в области перевода): на немецкий роман переводился трижды (1975, 2012, 2020), при этом последним стал ее собственный. Александра Берлина обратила внимание на специфику культурного и издательского контекста, в котором создавались эти переводы. Так, последний перевод вышел в издательстве «Anaconda», ориентированном в большей степени не на специалистов в области русской литературы и культуры, а на «случайного» читателя. Это обстоятельство обусловило и особенность стратегии перевода: исторические реалии, присутствующие в романе, и соответствующий исторический контекст (сталинский террор) представляются скорее понятными и легко считываемыми русскоязычным читателем, но нуждаются в адаптации для читателя современного немецкоязычного; в аналогичной адаптации нуждаются и элементы романа, связанные с категорией комического (ирония, юмор, анекдот). И тот, и другой аспект перевода оказывается зависимым от восприятия, от способности читателя считать контекст и воспринять то или иное высказывание как смешное. Язык террора, встречающийся в оригинальном тексте Булгакова, на немецкий может быть переведен при помощи языка Штази: А. Берлина привела в пример трудность перевода булгаковской фразы «Его быстро разъяснят», которую она предложила переводить при помощи глагола «durchleuchten» (его просветят/проверят), что позволяет сохранить контекстуальный эффект, производимый оригинальным текстом. Переводчица указала и на специфику перевода исторических реалий (которых в тексте Булгакова особенно много) с их адаптацией к восприятию немецким читателем и к немецкой литературной традиции. Так, привела пример А. Берлина, в одном из булгаковских диалогов, в котором упоминается марка советских сигарет («Наша марка»), присутствует аллюзия на диалог из «Фауста» Гете. В таком случае, когда речь идет о переводе на немецкий, представляется возможным усилить эффект аллюзии, использовав соответствующую фразу из произведения Гете (вместо «Какие [сигареты] предпочитаете?» - «Какой маркой могу служить», по аналогии с текстом Гете «Каким вином могу служить?»). В ходе дискуссии, последовавшей за докладом, участники обратили внимание на особенности публикации переводов художественной литературы: редакторская традиция как в Германии, так и в России пока скорее сопротивляется использованию сносок и примечаний в художественных текстах, ориентированных на широкого читателя. В дальнейшем при публикации переводной художественной литературы возможно и использование других приемов, расширяющих взаимодействие читателя с текстом: например, для того чтобы дать читателю «услышать» песню, мелодию или звуки, упомянутые в тексте и нуждающиеся в контекстуальном пояснении, при публикации можно использовать баркоды со ссылкой на музыкальное произведение (подобно тому, как в книгах используются визуальные образы, фотографии, иллюстрации и др.).
Светлана Арестова, вторая докладчица, предметом своего рассмотрения сделала речь персонажей в романах современной американской писательницы и журналистки Джеральдин Брукс. «Год чудес», о переводе которого шла речь в докладе», это исторический роман, обращающийся к реалиям Англии XVII в. К персонажам романа, которых можно с точки зрения речевых характеристик разделить на две большие группы - «образованные» и «необразованные», относятся, прежде всего, священник, служанка и сельчане. Образованные персонажи в романе - носители рафинированной, образной речи, при этом подчеркнуто затянутой, клишированной и эвфемистичной. Речь сельчан - в соответствии с их статусом - характеризуется большим объемом просторечий, но и представляется стилистически более выразительной: по словам переводчицы, необразованные персонажи в романе Джеральдин Брукс разговаривают как герои сказок, их речевые характеристики извлекаются, прежде всего, из диалогов (в отличие от речи главной героини-служанки). Главная героиня берет на себя функции нарратора, от лица которого ведется повествование, ее речь приближена скорее к группе «образованных» персонажей, но не сливается с ними: в некоторых частях рассказываемой истории ее речь вдруг становится осовремененной, приближенной к читателю XXI, а не XVII в., а иногда и вовсе лишается «светскости», характерной для «образованных» персонажей романа, и обретает совсем иную, поэтическую, интонацию. Различия в речи разных групп персонажей особенно заметны на примерах лексем, описывающих болезнь, физические страдания и смерть. События в романе разворачиваются на фоне чумы, поэтому избежать разговоров об этом не удается в романе никому. Речь служанки натуралистично описывает процесс заболевания и умирания, она обращена к сравнениям предельно конкретным и вещественным, связанным с актуализацией у читателя не только визуального образа больного, страдающего тела, но и образа, воспринимаемого во всей его полноте (с точки зрения вкуса, запаха, прикосновения). Речь главной героини, кроме этого, наполнена телесными метафорами, не характерными для языка всех остальных персонажей романа. Подводя итог, переводчица обратила внимание на стилистическую
многослойность романа: Дж. Брукс в оригинальном тексте не прибегала к намеренному «состариванию» языка, его переносу из XXI в. в XVII в., но при этом сочетала разные стилистические традиции, среди которых узнаваем язык и Дж. Остин, и Э. Троллопа, и поэтов-романтиков, но и некоторых современных писателей. Такая стилистическая особенность речи персонажей потребовала превратить перевод романа в своеобразную мозаику, собирающую воедино многоголосие не только персонажей, но и литературных традиций.
Следующий доклад был посвящен проблеме перевода на русский язык с японского языка. Елена Байбикова, лауреат переводческой премии «Мастер», обратилась к особенностям перевода ролевой речи персонажей. В своем докладе «Пятьдесят оттенков личного» она рассмотрела проблему перевода личных местоимений в японском языке, использовав понятие «якувариго». «Якувариго» в японской культуре, как отметила переводчица, это ролевая речь, форма виртуальной коммуникации, которой наделяют персонажей в художественном тексте. Использование ролевой речи позволяет при помощи словоупотребления моделировать в воображении читателя довольно конкретный образ литературного героя, те. маркировать его возраст, пол, профессию принадлежность к определенному сообществу, историческому периоду и т.д. Такое определение этому феномену впервые было предложено японским исследователем Сатоси Кинсуй в начале XXI в. Так, ролевая речь формирует определенные ожидания у читателя, соответствующие лингвокультурному типажу персонажа. Личные местоимения в японском языке маркируют гендерное измерение речи, характер коммуникации и взаимоотношения участников, но в разговорной речи нередко избегаются (в отличие, например, от европейских языков), поскольку предоставляют излишний объем информации для собеседника. Отчасти поэтому они оказываются особенно востребованными в художественном языке и представляют особую проблему для перевода в т.ч. на русский язык. Личные местоимения маркируют и пол, и возраст персонажей, нередко и их профессию, поэтому довольно часто такой языковой инструмент в японской литературе используется для характеристики второстепенных персонажей, на подробное описание которых у автора не остается времени. Возникает вопрос, каким образом необходимо переводить такие местоимения на русский язык, сохраняя исходный подразумеваемый контекст и меняя лишь незначительно форму высказывания. Е. Байбикова привела пример из произведения Хадзимэ Кандзаки, в котором личное местоимение выступает в роли маркера межличностных отношений: один из персонажей использует местоимение «он» с негативной коннотацией, демонстрирующей отношение говорящего к объекту. В этом случае при переводе допустимо заменить местоимение (которое в русском языке такой коннотацией не обладает) на существительное, имеющее сниженную стилистическую окраску (например, вместо «он» - «этот тип»), В иных контекстах личные местоимения могут маркировать социальное положение говорящего. Так, приводит пример докладчица, в романе Кэндзиро
Хайтани «Взгляд кролика» в речи персонажа встречается не только нейтральное и общеупотребительное личное местоимение, но и местоимение архаичное, относящееся к словоупотреблению скорее XVII в. Используя это местоимение в речи, персонаж как будто бы начинает играть своеобразную роль, отделяющую его от окружающих, от остальных говорящих. В этом случае, предлагает переводчица, нейтральное местоимение «я» в переводе можно заменить на «ваш покорный слуга», которое воспроизведет ролевую модель, предложенную в оригинальном тексте. Проблема перевода личных местоимений, хоть и характерная в большей степени для японского языка, с его большим объемом местоименных форм (более пятидесяти), может в ближайшее время стать еще более актуальной для английского языка, подчеркнула Е. Байбикова, поскольку в английском языке в последние годы фиксируется тенденция к диверсификации местоименных форм.
Во второй секции конференции докладчики перешли к обсуждению проблем перевода детской литературы, требующей особого внимания к речевым характеристикам персонажей. Ольга Дробот, лауреат множества переводческих премий, подчеркнула, что рассматриваемые ею переводы детских книг предназначены, прежде всего, для совместного чтения детьми и родителями, а потому ориентируются во многом на звуковое восприятие и представлены как в традиционной графической форме, так и в виде аудиокниг. Наибольшую сложность для перевода в детских книгах представляет собой повседневная речь персонажей, особенно если говорить о переводе со скандинавских языков на русский язык. О. Дробот подчеркнула, что детская литература (в том числе и при помощи речевых характеристик персонажей) фиксирует для ребенка отношения между взрослым и детским миром, очерчивает границу между ними, выстраивает определенную иерархию. В скандинавском контексте эти границы размыты, а миры - не разделены, и потому для детской литературы по-скандинавски не характерна открытая дидактика и даже «менторский тон», тогда как в русскоязычной детской литературе ситуация обстоит иначе. Перевод в таком случае, с одной стороны, требует адаптации этой иерархии к русскоязычному контексту, с другой - должен предоставлять возможность читателям познакомиться с чужими реалиями, с соотношением сил (между родителями и детьми), характерным для иноязычной среды. Похожая проблема встречается и в репрезентации взрослого мира на уровне лексики: нужно ли в детских книгах использовать «трудные» слова, малопонятную ребенку лексику, или такой прием только оттолкнет юного читателя? В каждой ситуации, как подчеркнула О. Дробот, переводчику требуются почти «аптекарские весы», способные замерить и необходимую дистанцию между взрослым и детским миром, представленным в переводе, и соотношение между знакомым и пока неизвестным, предназначенным для ребенка. А. Берлина в ходе дискуссии, последовавшей за докладом, отметила необходимость выбора, стоящего перед переводчиком детской литературы: ориентироваться на воображаемого читателя-ребенка или на

воображаемого читателя-взрослого, ведь и тот, и другой является целевой аудиторией такого типа переводной литературы.
Ольга Варшавер, лауреат премии «Мастер», премии «Серебряный стрелец» и др. переводческих премий, продолжая тему перевода детской литературы, обратилась к проблеме перевода диалогов как в прозаических текстах, предназначенных для детской аудитории, так и в драматических произведениях. О. Варшавер показала, как по-разному диалог в качестве речевой формы функционирует в переводе в виде пьесы и в виде прозы. Исследовательница задалась вопросом, нужен ли особый подход к переводу диалога и в чем состоит его специфика: во-первых, отметила О. Варшавер, в детской литературе для перевода прямой речи характерны подхваты и повторы, которые позволяют поставить акцент на устности того или иного высказывания; во-вторых, необходимо ориентироваться не на то, как текст считывается с листа, а на то, как он звучит и как воспринимается на слух. Такая особенность восприятия требует от прямой речи в детской литературе предельной ясности и «кристальной прозрачности», отмечает О. Варшавер. У слушателя не должно возникать потребности переслушать или перечитать текст для того, чтобы понять, о чем идет речь. Кроме того, драматическая «среда» функционирования диалога предполагает снятие атрибуции (более характерной для прозаического текста) и минимизацию ремарок. В таких случаях подтекст, фиксируемый в ремарках, должен переходить в текст. Прямая речь в таком случае абсорбирует не только словесный и звуковой образ, но и семантику жеста.
Именно жесту в контексте речи персонажей был посвящен доклад Ольги Бухиной и Галины Гимон, закрывающий конференцию. В докладе «Потянулся и сказал: ни слова без жеста» авторы продемонстрировали исследование переводов американских и английских писателей (М. Розофф, Ф. Пирс, Ж. Келли и др.). В фокусе внимания исследовательниц оказалась проблема атрибуции диалогов. В современной англоязычной прозе наиболее распространенной атрибуцией в диалогах является глагольная форма «said», при переводе на русский язык переводчики стремятся разнообразить глагольный ряд, избегая перевода типа «сказал», причем делают это разными способами: добавляя ему эмотивную семантику («возмутился», «обрадовался»), семантику движения («предложил мне руку», «собралась уходить»), семантику взгляда («внимательно посмотрел», «удивленно поднял глаза») и др., в результате чего в переводе (если сравнивать его с оригиналом) глаголов «сказал» остается примерно в 5-6 раз меньше. Это связано и с той особенностью русской художественной речи, при которой художественная литература активно отказывается от повторений, если они не являются маркированными или значимыми. О. Букина подчеркнула, что в последние годы уже и в русскоязычных переводах наблюдается тенденция к сохранению глагольных форм «сказал» в их соответствии с англоязычным оригиналом, но это замечание касается скорее книг для взрослой аудитории, тогда как детская литература особенно «не любит длиннот» и потому активнее сопротивляется повторам и многословности в атрибуции диалогов. Не менее употребимыми формами, наряду с глаголами говорения, в современной англоязычной прозе оказываются глаголы смотрения: как правило, обратили внимание исследовательницы, они тоже подвергаются сокращению при переводе на русский язык, хоть и в меньшем объеме. Особое место в атрибуции диалогов в англоязычной прозе занимают глаголы с семантикой жеста: персонажи, говоря, «качают головой», «хмурятся», «пожимают плечами». Такое частотное употребление глаголов со значением жеста, с одной стороны, указывает в тексте не только на телесное поведение персонажей, на их телесную реакцию на происходящие события, но и на эмоциональный отклик говорящего, поэтому при переводе некоторые из этих глаголов могут меняться, как показала О. Букина, от «нахмурился» - к «огорчился», от «пожал плечами» - к «развел руками». При этом в английском тексте, как правило, глаголы с семантикой жеста сопровождают глаголы говорения, а в русскоязычном - заменяют их. В ходе дискуссии, последовавшей за докладом, А.Л. Борисенко (МГУ) обратила внимание на то, как глагол «said» в англоязычной прозе оказывается глаголом-«невидимкой», тогда как его частотное использование в переводе на русский язык пока еще менее привычно, хотя в литературных произведениях, не являющихся переводами, те. написанных на русском языке, подобная атрибуция диалогов встречается нередко (например, в прозе XIX в.).
В дальнейшем обсуждение, начатое в рамках международной конференции «Книги с разговорами: как переводить речь персонажей», может быть продолжено, в том числе в аспекте интермедийного измерения речи персонажей: каким образом при переводе речь героев может быть адаптирована к аудиальным медиа (радио, подкасты, аудиокниги), к перформативным (театр, перформанс) и аудиовизуальным (кино, видео), каким образом речь при переходе из литературного медиума в иные медиумы трансформируется и меняет взаимодействие текста с аудиторией (читателем, слушателем, зрителем).
Шулятьева Дина Владимировна, Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики».