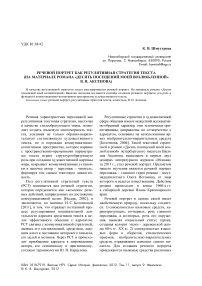Речевой портрет как регулятивная стратегия текста (на материале романа «Десять посещений моей возлюбленной» В. И. Аксенова)
Автор: Шмугурова Ксения Васильевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Семантические и прагматические параметры слова в языке и тексте
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В качестве регулятивной стратегии текста рассматривается речевой портрет. На материале романа «Десять посещений моей возлюбленной» Василия Аксенова изучаются способы создания речевого портрета, его роль и функции в коммуникативно-когнитивном пространстве художественноготекста.
Речевой портрет, регулятивная стратегия текста, идиостиль, в. и. аксенов
Короткий адрес: https://sciup.org/14737934
IDR: 14737934 | УДК: 81:38/42
Текст научной статьи Речевой портрет как регулятивная стратегия текста (на материале романа «Десять посещений моей возлюбленной» В. И. Аксенова)
Речевая характеристика персонажей как регулятивная текстовая стратегия, выступая в качестве стилеобразующего звена, позволяет создать языковую многомерность текста, усиливая не только образно-выразительную составляющую художественного текста, но и порождая коммуникативнокогнитивное пространство, которое наравне с пространственно-временными параметрами текста играет структурообразующую роль при создании художественной картины мира, вскрывает коммуникативные установки в цепочке автор – персонаж – читатель, формируя тем самым текстовую диалогичность.
Под регулятивной стратегией текста (РСТ) понимается вид речевой стратегии, которая определяется как «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [Иссерс, 2002], и заключается, по мнению Н. С. Болотновой [2011], в том, что отражает поэтапный процесс регулирования познавательной деятельности адресата средствами текста в целях эффективного общения с адресатом. РСТ связана с коммуникативной стратегией, являясь его составляющей, средством, дающим ключ к осознанию авторского замысла, его целей и мотивов. Через РСТ и происходит приобщение адресата к мировидению автора, его семантикону и прагматикону, согласно терминологии Ю. Н. Караулова.
Регулятивные стратегии в художественной сфере общения имеют нежесткий ассоциативно-образный характер, они эстетически ориентированы, направлены на сотворчество с адресатом, основаны на использовании ярких изобразительно-выразительных средств [Болотнова, 2006]. Такой текстовой стратегией в романе «Десять посещений моей возлюбленной» петербургского писателя Василия Аксенова, вышедшем в первых двух номерах литературного журнала «Москва» за 2011 г., стал речевой портрет. Предметом нашего изучения является речевой портрет персонажа – главного героя романа – шестнадцатилетнего Олега Истомина, от лица которого и ведется повествование. Действие романа происходит в конце 1960-х гг. в сибирской деревне Ялань Красноярского края.
Речевой портрет в основе своей имеет двойственную природу, поскольку создается: 1) совокупностью языковых средств, характеризующих, во-первых, речь главного персонажа, а во-вторых, речь его окружения, выявляя социальный статус героев, создавая колорит эпохи – деревенской жизни 60-х гг. XX в.; 2) совокупностью языковых форм и оборотов, стилистических приемов, изобразительно-выразительных средств, отражающих идиолект самого писателя. Для создания речевого портрета привлекаются языковые средства различных
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © К. В. Шмугурова, 2012
уровней, выполняющие различные стилистические функции и обладающие вследствие этого различным экспрессивно-эмоциональным потенциалом.
Доминирующим стилеобразующим фактором в романе выступает речевая характеристика главного героя. Как и языковая личность, речевой портрет может быть индивидуальным и коллективным. Индивидуальный речевой портрет дает возможность судить о речевых характеристиках той или иной социальной группы. Коллективный речевой портрет позволяет обобщить явления, присущие определенному кругу людей, объединенных в национальном, возрастном, социальном, профессиональном плане. Монологическая речь главного героя отражает как индивидуальные, так и коллективные особенности. В романе можно выделить несколько речевых пластов, которые, взаимодействуя, образуют речевую полифонию романа и определяют его художественное своеобразие.
-
1. Диалектные особенности произношения и словоупотребления, в целом характерные для местности, описываемой в романе (это Красноярский край, Енисейский район - в романе г. Елисейск, Исленьский край).
-
2. Речь бабушек и дедушек. Представлена вкраплениями из речи Марфы Измайловны и Захара Ивановича - бабушки и дедушки друга главного героя, которые уже умерли, но во внутренней речи героя постоянно появляются не только отдельные выражения, но и целые диалоги, некогда происходившие между ними.
-
3. Речь старшего поколения - родителей главного героя Елены и Николая Истоминых.
-
4. Речь главного героя и его друзей как представителей молодого поколения.
Таким образом, одним из противопоставлений, реализующихся в романе, является оппозиция молодежь - старики, или настоящее - прошлое, которую представляют образы Олега Истомина с друзьями и его родителей. Первые, в основном, говорят литературным языком, тогда как для речи последних свойственны диалектические особенности произношения и словоупотребления. Главный герой, рефлексируя над языком, маркирует эти особенности лексемами по-стариковски, по-чалдонски, свою же речь характеризует словами по-русски, по-другому: «Не задож-жило б» - так по-стариковски. Идёт, мол, до-ож, дож-жи-ы ли зарядили. Чудно они у нас в Ялани разговаривают. «Разболокаться». «Давеча». «Тажно». «Лонись». «Вечор». Мы -по-другому. Я иногда и маму поправляю. Она - смеётся: не знаю, кто, а я-то, мол, по-русски. Ага, по-русски. По-чалдонски. По-русски вон - по радио. И - телевизору; «Ну, как умею, так и говорю... Меня уже не переучишь», - так скажет мне.
I. Способы, которыми автор вводит речь персонажей (коллективную или индивидуальную) в текст, можно разделить на три группы: рефлексия главного героя, лексические вкрапления чужой речи, на основе ассоциативной связи. Каждый из способов выполняет свои функции.
-
1 . Рефлексия главного героя. Истомин отмечает особенности произношения и словоупотребления, размышляет над ними, поясняет читателю некоторые значения, тем самым автор постоянно подчеркивает коммуникативную направленность на читателя, на диалог с ним.
-
• Были мы с Рыжим на Кеми , купались. Хорошо. Но мало. Сутки с реки не уходили бы , наша бы воля. Ночи тёплые , «парные». Вода прогрелась так , что и к утру не охлаждается. Не в Бобровке - родниковой - в той-то что летом , что зимой. В Кеми - « как щёлок » - мама бы сказала. Марфа Измайловна произносила : « ш-шолак ». Полы , мол , раньше мыли « ш-шолаком » , в «ём» и тряпицы , дескать , « ш-шэлочили ». Отвар золы - весь тебе щёлок .
-
• Мама на кухне , окрошку готовит. Ботун ножницами стригла - им и пахнет вкусно , аппетитно. «Бутун» - у нас так произносят .
-
• Скоро поспеет земляника. У нас «землянка» говорят .
-
• И интересно они тут , в Черкассах , говорят - гласные тянут не по-нашему.
-
2 . Лексические вкрапления чужой речи. В тексте берутся в кавычки, на синтаксическом уровне представлены, как правило, парцеллированными конструкциями. Подобные вкрапления играют роль языкового фона, среды, в которой происходит становление героя, маркируют не только чужую речь, но и заключают фрагменты коллективной картины мира, отражают некоторые национально-специфические черты характера и ментальные особенности:
-
• В прошлом году изрешетило , как бумагу , шиферные крыши. Словно шрапнелью. Нам-то не страшно - желобник. А у иных в домах ещё и стёкла в окнах выставило - шквалом. Дорого людям ремонт обошёлся. «В копеичку» .
-
• Ялань пустынная. Как вымерла. Молодёжь - на речке , взрослые - в прохладные закутки попрятались. Отсиживаются там или отлёживаются. Из-за «давлення» .
-
• Жара хоть спала. «Стало чем дышать» . Чем - будто не было до этого. Не понимаю. Прохладней сделалось - согласен.
-
• Лежат они , гранёные , в отдельном ящике. «На случай» .
Кроме того, лексические вкрапления выполняют функцию характеристики персонажа. Главный герой словно не берет на себя ответственность, стараясь быть объективным, давать оценку какому-либо персонажу и представляет его образ с помощью тех выражений, которыми обычно характеризуют его жители деревни:
-
• Парень как парень. Рослый , видный. Ну, только рыжий. Так и что? И рыжих любят. Стёпка Темных. Рыжее Рыжего. Правда, веснушек меньше у него. «Отбоя нет ему от девок» . Так про него и говорят . Хоть бы одна, пусть месяц, два ли, погуляла с Рыжим , нам было легче бы , его друзьям. Гораздо. Любовь несчастная , не удалась - пошёл топиться.
-
• Глаза у дяди Вани от радости , наверное , слезятся - «на мокром месте» часто у него они бывают - он « соболезный шибко уж до всех » и « на всякое постороннее горюшко , как эхо , отзывчивый ».
-
3 . Чужая речь в повествовании главного героя возникает на основе ассоциативной связи слов. Здесь может быть несколько путей ассоциативного развертывания текста.
-
3.1. От слова к персонажу, ассоциативно возникшему в памяти при употреблении какого-либо слова: В этом , девятом уже классе , случилось , правда , кое-что. Странно. Нежданно и негаданно. «Что-то случилось этой весною...» - вот именно. Но ещё осенью. Помимо моей воли , врасплох застигло. Бывает . « Бывает , - говорит папка , - и корова летает , а боров песенки поёт » .
-
3.2. Ситуация вызывает ассоциацию с персонажем и тогда вводится характерная для него лексика: В самый зной мы не окучиваем. Отдыхаем. Сейчас на поле-то -
- зажариться. Зашёл в избу. Прохладно. Благода-а-ать, как говорила Марфа Измайловна. - Благодать, - говорю.
-
3.3. Как прием для создания текстового многоголосия, полифонии, которая образует языковую многомерность, отраженную в тексте:
День в разгаре. Погодистый . Как говорил Иван Захарович : « Не день , а фильма ... в клубе-то чё кажут ; ишшо и лутшэ - сиди , смотри , любуйся , безо всякого , билет не надо покупать... От той , поди , и голова , боись , закружится - мелькат-то шибко. А тут... Тока изменчиво... как месяц , - скажет Иван Захарович , куда смотрел , оттуда отвернётся и , глядя под ноги себе , добавит : - Пряро-ода , язви бы в яё... К ня-настью клонит - кости извертело. Не жизь , а мука ».
Папку спроси : как , мол , денёк? - ответит : « Красный , как собака ».
Не спрашиваю. Вообразить трудно. Как Бесконечность. Представлю собаку , дня не вижу , представлю день - собака исчезает. Ещё и красная , к тому же.
Не знаю , как у папки получается - сводить их вместе? Умеет как-то. Может , когда-нибудь и научусь.
Я так скажу :
Июль. Каникулы. День. Солнце.
В приведенном отрывке оценка погоды, данная различными персонажами, но озвученная устами главного героя, позволяет создать текстовую многослойность: с одной стороны, одномоментно задействованы все три поколения в лице Ивана Захаровича, отца и непосредственно главного героя, с их речевыми особенностями и реакциями на, казалось бы, одну ситуацию, а с другой -имеет место установка на языковую игру, нацеленную на диалог с читателем, за счет чего достигается особая выразительность и эмоциональность текста.
-
II. В. И. Карасик определяет речевое поведение как «осознанную и неосознанную систему коммуникативных поступков, раскрывающих характер и образ жизни человека» [2004]. С этой точки зрения в романе важны образы отца и матери, как двух полюсов - мягким и жестким, между которыми находится главный герой: И сам я иногда перед чем-нибудь замираю , что впечатлит . «Мир Твой чуден , Господи!» - как говорит мама. «Веруш-шая» - говорит про неё папка. И добавляет : « Глупа баба ». Не прав ,
конечно . Да он и сам-то так не думает. Просто - горячий. « Как порох , взрывчи-вый , - говорит про него мама. - На языке пых , на сердце пламя ». Оно - похоже. Ровным , прохладным , не бывает. Я не в него , конечно... но... посмотрим. Что-то , наверное , и есть. Хожу , как он , немного косолапя. Раньше пытался даже изменить походку - не получилось . Отступился. « Горбатого , - говорит папка , - могила исправит ». И косолапому не переделать ноги. И косолапые живут.
С одной стороны, речевой образ, создаваемый автором, служит для характеристики персонажей, выявления их личностных качеств, жизненных установок, ценностей, в целом мировидения. Их высказывания, возникающие в памяти героя, сопровождаются рефлексией по поводу того или иного случая: герою в романе 16 лет и он еще ищет свое место, часто воздерживается от принятия той или иной стороны, от согласия или несогласия. Такая коммуникативная стратегия автора позволяет раскрывать психологичность образа главного героя, его развитие на протяжении романа, взросление:
-
• Сердце моё тогда вдруг стиснуло от этой трели - тоже впервые . Мимо ушей бы раньше пропустил. И то , что есть оно в груди моей , тогда почувствовал впервые . Знал только то , что есть оно у мамы : «Сердце который день уж чё-то ноет - с кем-то из близких чё уж не случилось ли?» А у меня оно до этого не объявлялось. Вот как сейчас - и нет его как будто. Ну , разве что... подплавилось немного... моё сердечко , мой мотор.
-
• Не я один увидел сходство. Но мне больнее это замечать. Хотя кто знает . «В чужую душу не залезешь , - как говорит мама. - Чужая душа - потёмки... да и своя-то». Душа , душа... если была бы. Тело и ум - какая там душа! Это для тёмных и безграмотных. Двадцатый век. И в космос вон уже летаем. А их из прошлого не вытащишь - погрязли. Время такое было - им простительно.
И, с другой стороны, выступает как регулятивное средство для создания образности, для ввода экспрессивной лексики, игры синонимов, поговорок, пословиц, фразеологических сочетаний, афористических выражений, заключающих народную мудрость, языковой игры:
-
• Сосны «волнуются» на Камне. Не от земного труса , а от марева. Папка сказал бы : мельтесят. Мама бы так сказала : зыбнут. Видишь их , сосны , не чётко - как через мутное , с разводами , стекло .
-
• « Труженицы » - говорит о них , о пчёлах , мама. « Работяш-шые » - говорит о них папка. Не то что некоторые , дескать , - трутни. Пальцем не ткнёт , но ясно , на кого намекает. Так намекает только , но не думает.
-
• Да время тратить не охота : не порыбачишь. На это дело я азартный . «Зар-ный» - так папка говорит , то есть - «охочий» .
Речь персонажа может вводиться также с целью дать более емкое определение, обыграть предмет с различных сторон: Проверить надо - вдруг там Колян когда-то что-то и припрятал , после забыл , с дырявой своей памятью . С девичьей , мама бы сказала ; Платье на Тане ситцевое. Голубое. С короткими рукавами. С открытым воротом. Сидит красиво . Папка сказал бы : будто влитая .
-
I II. Наконец, особое место в романе занимает речь Марфы Измайловны и Ивана Захаровича. Вкрапления из их речи более образны, экспрессивны и выразительны, афористичны по содержанию. Их яркие и острые диалоги, возникающие в памяти главного героя, во-первых, придают особый колорит повествованию, а во-вторых, язык предстает в роли медиатора между поколениями, выполняя тем самым свою кумулятивную функцию, а главный персонаж является транслятором:
-
• Вспомнил , и будто услышал грудной голос её , Марфы Измайловны , бабушки Рыжего. Опустело без неё на белом свете. Обеззвучило значительно . В околотке нашем - совсем уж.
-
• Поговорили - как живые. А я послушал с удовольствием .
-
• Укрупни-ка муравья до нашего размера - ну , и куда бы мы тогда от этих монстров побежали? Не в космос же - ракет на всех не хватит. Лишь на просторы океанские. Как когда-то киты и дельфины. Те , интересно , от кого? От динозавров? Или они эпохой не совпали?.. Кто-то ж заставил их покинуть сушу. «Не приведи Оспо-ди , - сказала бы Марфа Измайловна. - Стрась какая , несусветная» . Страшно и мне. Подумал только , и пробрало до «му-
- рашков». Себя в клешнях его, такого чудища, представил, тут же пошли по коже пупырышки. Хрум – и готово: пополам.
-
• И я , чалдон , как мама , вдруг заговорил . Ну , прорывается. Бывает .
Таким образом, создавая различными способами речевой портрет не только главного персонажа, но и всех действующих лиц, автор добивается нелинейности повествования и коммуникативно-когнитивной многослойности текста.
Подводя итог, отметим, что проза писателя привлекает не столько темой Сибири, знакомой читателю по произведениям В. Астафьева, В. Распутина и др., сколько необычностью формы, стилем, который становится важнейшей движущей силой повествования. Как правило, романы В. И. Аксенова представляют собой череду эпизодов, поток воспоминаний, изложенных автобиографическим героем-рассказчиком. Автор часто пользуется «монтажным» принципом соединения разнородных «кусков»
повествования, в текст вводятся прямые или скрытые цитаты, нередко используется характерный для модернистской прозы прием – «текст в тексте». Все эти особенности и формируют идиостиль автора.