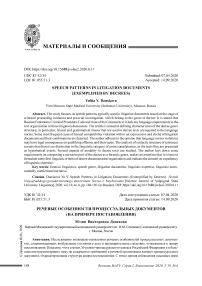Речевые особенности процессуальных документов (на примере постановления)
Автор: Донскова Юлия Викторовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 6 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено выявлению речевых особенностей процессуальных документов, сопровождающих возбуждение уголовного дела и предварительное следствие, относящихся к жанру постановления. Показано, что в статьях Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и в большинстве комментариев к нему не содержится требований к речевой организации данного процессуального документа. Охарактеризована структура жанра постановления. С точки зрения соблюдения языковых норм рассмотрены лексические и грамматические средства, функционирующие в текстах постановлений. Приведены типовые случаи нарушения сочетаемости лексических единиц в составе устойчивых выражений и клише, функционирующих в юридическом дискурсе, и их комбинаций. Обосновано положение о том, что нарушение языковых норм в юридическом документе может иметь правовые последствия, связанные с квалификацией правонарушений и их состава. В результате анализа синтаксической структуры предложений установлено, что в документах при описании событий лингвистически не разграничиваются совершенные действия, которые приписываются субъектам как возможные, и гипотетические действия. Представлены некоторые аспекты модальности процессуального документа. Сформулированы требования к составлению нарративной части постановления как юридического документа. Делается вывод о необходимости выработки четких критериев речевого оформления процессуальных документов и целесообразности их лингвистической экспертизы.
Юридическая лингвистика, речевой жанр, процессуальные документы, лингвистическая экспертиза, языковая норма, модальность, нехудожественный нарратив
Короткий адрес: https://sciup.org/149131604
IDR: 149131604 | УДК: 81’42:34 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.6.11
Текст научной статьи Речевые особенности процессуальных документов (на примере постановления)
DOI:
Любые процессуальные действия и их результаты должны быть зафиксированы в письменной форме в виде соответствующих документов. К последним относятся постановления, которые закрепляют решения как на стадии возбуждения уголовного дела (постановления о возбуждении уголовного дела), так и на стадии предварительного следствия (постановления о привлечении в качестве обвиняемого, постановления о выделении материалов уголовного дела в отдельное производство и постановления о назначении судебной экспертизы). Исследования в области юридической лингвистики на основе имеющейся практики показывают, что процессуальные документы имеют ряд специфических дискурсивных особенностей. Однако открытым остается вопрос о том, влечет ли нарушение нормы языка несоблюдение нормы права и создает ли угрозу правовой безопасности субъекта. В поисках ответа на него необходимо рассмотреть структурную специфику постановлений, обусловленную особенностями процессуального использования данного типа текстов, а также обратиться к лексическим и синтаксическим характеристикам указанных видов документов.
Материал и методы
В последнее время процессуальные документы становятся объектом изучения не только юристов, но и лингвистов, в среде которых доминируют дискурсивный и сти- листический подходы. В рамках первого подхода постановление понимается как один из формульных жанров официально-делового стиля. И.Д. Зайцева определяет данный вид документа как «речевой результат производимых следственных действий, закрепленный в форме документа, частная цель которого – резюмировать известные сведения и вынести решение о возбуждении дела» [Зайцева, 2010, с. 145]. Хотелось бы добавить, что вынесенное решение может касаться не только возбуждения дела, но и ряда других действий, описанных выше.
В рамках второго, стилистического подхода исследуются частотные нарушения в использовании лексических возможностей языка в текстах постановлений (неумение пользоваться всем диапазоном синонимического ряда, трудности в разграничении паронимов и омонимов, активное употребление канцеляризмов, некорректное употребление многозначных слов); нарушения логики изложения, абзацного членения, а также норм орфографии и пунктуации; повторы различного типа, речевая избыточность и недостаточность. Однако эти аспекты в большей мере затрагивают речевую культуру автора документа.
Вопросы возникновения юридических последствий в результате нарушения языковой нормы в тексте процессуального документа обсуждаются рядом специалистов. Так, Е.Н. Егорова считает, что нормы языка несопоставимы с нормами права и нарушение первых в юридическом документе может повлечь за собой не столько правовые последствия, сколько нарушение коммуникативной функции. При этом автор отмечает, что ошибки в образовании форм слова или построении предложения и, как следствие, возможность неоднозначной интерпретации могут свидетельствовать об уровне компетенции автора документа и в то же время повлечь за собой серьезные юридические последствия [Егорова, 2016, с. 120]. Необходимость строгого соблюдения языковых норм при оформлении юридических документов Е.Н. Егорова обосновывает в том числе и тем, что тексты постановлений и судебных экспертиз – это прецедентные тексты, то есть они являются объектами цитирования в других документах, например приговорах и решениях суда [Егорова, 2016, с. 122].
В работах И.И. Гулаковой и В.Н. Чаплыгина отмечается, что «при составлении процессуальных документов следователям необходимо полностью исключить возможности разночтений и истолкования, поскольку они неизбежно ведут к нарушению одной из основных функций права – функции регулирования правовых отношений» [Гулакова, Чаплыгин, 2015, с. 140–141]. Их точку зрения разделяют А.В. Никонов и Е.В. Горкина, подчеркивая важность непротиворечивого и четкого описания действий в процессуальных документах, причем указывают на то, как достижение этого требования связано с корректным использованием стилистических возможностей языка [Никонов, Горкина, 2017, с. 152]. Именно из этой позиции мы будем исходить в своем анализе, на практическом материале выявляя, как семантико-грамматические особенности текста описательно-мотивировочной части постановления могут привести к разночтениям и оказать влияние на квалификацию состава преступления. В исследовании использованы методы компонентного анализа лексических и грамматических единиц.
Материалом для изучения послужили документы из личного экспертного архива автора, а также из открытых источников: сайтов , , Для анализа были отобраны 15 текстов. При цитировании материалов сохраняется орфография и пунктуация первоисточника.
Результаты и обсуждение
Структурные особенности жанра постановления
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ) выделяются три вида постановлений: о привлечении в качестве обвиняемого, о возбуждении уголовного дела публичного обвинения, о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела.
Структура постановления о привлечении в качестве обвиняемого определяется в п. 2 ст. 171 УПК РФ («Порядок привлечения в качестве обвиняемого») и имеет три части. Вводная часть документа отличается высокой степенью стандартизированности, поскольку представляет собой текстовую рамку с инициальной составной частью, в которой называется автор постановления с указанием институциональной принадлежности, а также данные лица, в отношении которого оно составляется. В описательно-мотивировочной части сообщается о преступных действиях, которые должны быть доказаны. В резолютивной части приводится решение должностного лица. Структура постановления о возбуждении уголовного дела публичного обвинения определяется в п. 2 ст. 146 УПК РФ («Возбуждение уголовного дела публичного обвинения»): в тексте постановления необходимо указать повод и основание его вынесения. Постановлениям о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела посвящена ст. 155 УПК, однако структура постановлений данного вида в ней не характеризуется.
Как видим, законодательством определяются типовые элементы структуры и содержания процессуальных документов некоторых видов, при этом языковые аспекты их оформления в текстах статей УПК не указаны, также нет упоминания о них и в большинстве комментариев к УПК. Исключением являются комментарии к УПК А.П. Рыжакова, который в отношении ст. 171 УПК РФ указывает на необходимость соблюдения при передаче фабулы в описательной части постановления таких критериев, как четкость и точность формулировок [Рыжаков, 2014]. Это важное замечание, поскольку об указанных критериях специалисты говорят применительно к текстам судебных и нормативных актов, а также документов договорной сферы. По нашему мнению, необходимо распространить их и на процессуальные документы, в том числе и на постановление, которое также является документом одной из сфер права и создается на естественном языке.
Лексические особенности жанра постановления
Язык текстов основной части постановлений характеризуется клишированностью, при этом ее степень тем больше, чем меньше уникальность описываемых событий. Обратимся к примерам использования устойчивых для русскоязычного юридического дискурса выражений, используемых в пределах одного постановления.
К значимым лексемам в анализируемых постановлениях относится сговор . Эта лексема употребляется в клишированном выражении действуя в составе группы лиц по предварительному сговору . В различных лексикографических источниках приводятся следующие значения лексемы сговор :
– «соглашение в результате переговоров (обычно тайное); заговор» (БТС, с. 1166);
– «соглашение с целью совместного осуществления преступного замысла» (МАС, с. 61);
– «соглашение в результате переговоров» (РСС).
Интегральной в значении лексемы сговор является сема ‘соглашение’, отражающая ситуацию договоренности, возникшей для осуществления некоторого замысла. Непроцессуальный признак лексемы сговор в анализируемом выражении актуализируется прилагательным предварительный , которое реализуется в значении «предшествующий чему-л. основному, главному; бывающий перед чем-л.» (БТС, с. 957–958) и семантически близко наречию заранее (НОССРЯ, с. 588). Таким образом, словосочетание предварительный сговор указывает на наличие соглашения; заговора, согласованного заранее, предшествующего какому-либо действию.
Другая значимая лексема, входящая в русскоязычные юридические клише, – умы- сел. В разных словарях современного русского языка зафиксированы следующие значения данной лексемы:
– «заранее обдуманное тайное намерение (обычно предосудительное, неблаговидное)» (БТС, с. 1389);
– «заранее обдуманное тайное намерение (преимущественно предосудительное)» (МАС, с. 496);
– «одна из форм вины (противопоставляемая неосторожности) – подготовка преступления с осознанием его общественно опасных последствий (спец.)» (РСС).
В семантике лексемы умысел находит отражение идея «волевого импульса, но при этом акцентируется не внутренняя готовность к действию, а наличие четко осознаваемой цели» (НОССРЯ, с. 588). Важно отметить, что, как правило, она не демонстрируется явно. Кроме того, синонимический ряд намерение , замысел , задумка , умысел характеризуется такими свойствами, как «осознание человеком своих возможностей, т. е. включает обдумывание и представление о вероятном результате» (НОССРЯ, с. 588).
Возникновение умысла в русскоязычном юридическом дискурсе репрезентируется лексемой внезапно . Это наречие относится к семантическому классу «образ действия», обозначает характер протекания ситуации и имеет значение «вдруг, неожиданно; непредвиденный» (БТС, с. 137). По данным «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка», лексема внезапно используется в случае, когда «P = имеет место P; говорящий или наблюдатель не ожидал, что будет Р или что Р произойдет именно в данный момент» (НОССРЯ, с. 655). В юридических текстах существительное умысел входит в состав двух определений, дающих разграничение намерений совершения деяния по времени формирования: «заранее обдуманные» и «внезапно возникшие». При этом клише внезапно возникший умысел построено с нарушением лексической сочетаемости, в связи с чем возникает вопрос допустимости его применения в юридическом дискурсе.
Результатом использования не вполне корректного словосочетания становится то, что в текстах постановлений предварительного следствия и приговоров суда (первый тип документа обязательно цитируется во втором) при описании преступных действий понятия «внезапно возникший умысел» и «предварительный сговор» зачастую объединяются как однотипные характеристики действия:
-
(1) После чего, <ФИО>, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего преступного умысла , направленного на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью <ФИО>, с применением предметов, используемых в качестве оружия, и с этой целью, вступил с <ФИО> в предварительный преступный сговор , распределив при этом роли, и действуя совместно и согласованно с соучастником <ФИО> ( https://www.mos-gorsud.ru/rs/.../cases/.../0831dec2-0edc-4c8e-bd43-f67a73b4ab9c );
-
(2) Следствием установлено, что <ФИО> действуя в точно неустановленное следствием время, но не позднее <время> (пример из личного архива);
-
(3) ...В ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений между неустановленными следствием лицами, находящимися на первом этаже здания <название> расположенном по адресу: <...>, в присутствии посторонних лиц, в пятничный день, в вечернее время суток, когда многие граждане посещают развлекательные мероприятия из хулиганских побуждений, <ФИО>, реализуя свой внезапно возникший умысел в составе группы лиц по предварительному сговору вступил в конфликт с <ФИО> (пример из личного архива);
-
(4) Затем <ФИО> и <ФИО>, реализуя внезапно возникший умысел , направленный на открытое хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору , умышленно, из корыстных побуждений, потребовали от <ФИО> передачи денежных средств <...> ( http://kirovcourt.oms.sudrf.ru/ modules.php?name=docum_sud&id=406);
-
(5) <Дата>, около <время> часов, в <адрес> реализуя в незапно возникший умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору несовершеннолетний <ФИО> с несовершеннолетним <ФИО> и лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( http://www.gcourts.ru/ case/7225361).
Однако, как показывает вышеприведенный анализ соответствующих лексем, описание преступного действия, совершенного по предварительному сговору или в результате внезапно возникшего умысла, является про- тиворечивым, что усиливается использованием лексемы заранее (заранее приготовленный и находящийся при нем для совершения преступления). Она имеет только одно значение – «за некоторое время до чего-л.; заблаговременно» (БТС, с. 342; МАС, с. 565) – и используется в контекстах, «описывающих целенаправленные действия, которые совершаются для того, чтобы подготовить наступление каких-либо событий» (НОССРЯ, с. 365). Подготовить заранее то, что возникнет внезапно, нельзя. Таким образом, фразы заранее приготовленный пистолет и внезапно возникший конфликт / умысел <…> по предварительному сговору нарушают лексические нормы.
Следовательно, описание событий содержит логическое противоречие: одно и то же действие показывается и как заранее спланированное, и как возникшее непредвиденно, неожиданно. Истоками этого противоречия в значительной мере является использование изначально некорректного с лингвистической точки зрения выражения.
Процессуальный документ как нарратив
Поскольку главным элементом основной части постановлений является описание обстоятельств совершения правонарушения, мы предлагаем рассмотреть текст постановления как нарратив. Традиция изучения нарративной составляющей юридического документа уже сформировалась в юридической лингвистике. Среди зарубежных исследований можно выделить работу Питера Тиерс-ма, который обращается к истории британского правосудия. Он отмечает, что повествовательный элемент существует в структуре судебного документа по крайней мере со времен Средневековья. Юристы того времени должны были излагать предположительные утверждения и доказывать истинность утверждаемых клиентами фактов, то есть и истцы, за которых выступал ходатай, и юристы рассказывали суду «историю» [Tiersma, 1999, p. 148–149]. Среди работ отечественных исследователей отметим статью К. Титаева и М. Шклярук, которые сравнивают деятельность следователя с творчеством драматурга, поскольку в ходе расследования из отдельных фактов составляется нарратив, позволяющий принять процессуальное решение [Титаев, Шклярук, 2015, с. 199].
Текст описательно-мотивировочной части постановления является «нехудожественным нарративом», поскольку данный структурный компонент процессуального документа представляет собой воспроизведение некоторой последовательности событий, имевших место в реальности, а должностное лицо, составляющее постановление, становится их реконструктором. Дискурс процессуального документа имеет разностороннюю направленность: на других лиц (в случае доказанности совершенных деяний) или на адресанта (в случае прекращения уголовного дела). Опираясь на концепцию А.В. Глазкова, постановления можно отнести к нехудожественным нарративам неактуального действия, как тексты, «рассказывающие о ситуации, не развивающейся во время написания текста» [Глазков, 2016, с. 52]. Исследователь выделяет ряд специфических черт нехудожественного нарратива неактуального действия, рассматривая в качестве объектов мемуарные и иные исторические тексты. Однако нехудожественный нарратив в публицистическом тексте отличается от нарратива в официально-деловом тексте. К созданию нарратива в процессуальном документе предъявляются следующие требования: автору необходимо выстраивать текст согласно происходящим событиям; факты должны пройти проверку «реальностью», поэтому они не должны быть искажены; рассказ не допускает аналитичности, то есть автор должен ограничиваться фактической стороной дела и не может давать никаких оценок, кроме предусмотренных законом.
Еще один важный компонент нехудожественного нарратива неактуального содержания – это речевые средства воплощения. По мнению Т. ван Дейка, так как нарративы являются только одним (эмпирическим) типом дискурса, то ясно, что более общее знание о синтаксисе и семантике дискурса и об особенностях, различающих типы дискурсов, – необходимое требование к характеристикам их абстрактной глубинной (логической) структуры [Dijk van, 1976, p. 290].
Грамматика повествования в процессуальном документе
С лингвистической точки зрения минимальная нарративная единица – это предикат. Она в значительной степени определяет нарративную стратегию автора. Рассмотрим следующие высказывания из текстов постановлений:
-
(6) ...Соучастники X., Z., в процессе совершения вышеуказанных преступных действий X. и неустановленным соучастником, наблюдали за окружающей преступной обстановкой, своим присутствием показывали численное и физическое превосходство соучастников, а также были готовы применить насилие к потерпевшим N., G. (пример из личного архива);
-
(7) ...Соучастник X., игнорируя посторонних лиц, демонстрировал неустановленный следствием предмет, похожий на пистолет, который был готов использовать при совершении данного преступления в качестве оружия, при возникшей необходимости или иного сопротивления (пример из личного архива);
-
(8) ...X., Y., Z. и не менее двух неустановленных следствием лиц были длительное время знакомы между собой, посещали тренировки спортивного клуба <...>, владельцем которого являлся X., четко осознавали , что прибыли на место для осуществления сопровождения X., в том числе были готовы оказать при необходимости ему физическую поддержку (пример из личного архива);
-
(9) Данное оружие фактически находилось у X. и Y., однако, должно было использоваться в целях и интересах всех соучастников (пример из личного архива).
В примерах (6)–(8) дается описание действий участников преступления, а в примере (9) сообщается о предмете. Основным средством выражения действий выступают глаголы несовершенного вида прошедшего времени множественного числа: наблюдали , показывали , посещали , демонстрировали , прибыли , осознавали .
Глаголы наблюдать «осуществлять надзор, наблюдение» (БТС, с. 570), демонстрировать «представлять для обозрения, публично показывать» (БТС, с. 250) относятся к таксономической категории деятельности, протяженной во времени [Падучева, 2004, с. 207]. Глагол показывать «поведением, словами, видом дать понять что-л., побудить догадаться о чем-л.» (БТС, с. 893) входит в таксономическую категорию «обычного действия» [Падучева, 2004, с. 207]. Глагол посещать «являться куда-л. или к кому-л. на какое-то время, побывать где-л., у кого-л.» (БТС, с. 932) относится к парным глаголам (термин Е.В. Падучевой) таксономической категории моментальных глаголов действия, но глагол посещать, в отличие от парного ему посетить, обозначающего завершенное действие, содержит семантический компонент неоднократности. Глагол осознавать «понять, уразуметь» (БТС, с. 732) включается в тематический класс ментальных глаголов, выражающих не конкретное действие, а способности субъекта, «ментальное свойство Х-а, являющееся результатом достижения мыслительных операций» [Кобозева, 2009, с. 177]. Ю.Д. Апресян дает толкование глагола понимать как синонима глагола осознавать в идентичной синтаксической позиции: «А понимает, что Q = ‘В момент t0 А знает или представляет, что Q; это знание или представление возникло в результате того, что до t0 А знал что-то о ситуациях, связанных с Q, и думал о чем-то, связанном с Q; знание, что Q, делает возможным знать или представить, что может произойти после t0’» [Апресян, 1995, c. 50].
Необходимо также обратить внимание на конструкцию быть + предикатив готовый + инфинитив. Один из предикатов в каждом из высказываний (6)–(8) состоит из глагола-связки были / был в форме мн. ч. или ед. ч. муж. рода соответственно. Смысловой компонент выражен модальным предикативом готовы / готов: «имеющий желание, склонный, расположенный, способный что-л. сделать» (БТС, с. 223), «такой, который решил, что он сделает P, несмотря на возможные трудности, или не будет мешать осуществлению P, несмотря на его нежелательность, потому что это нужно для него и для кого-то другого» (НОССРЯ, с. 237). В примерах (6)–(8) валентность содержания выражается инфинитивом и указывает на значение онтологической возможности, которая выражает вероятностное суждение о том, что «Х способен совершить P по своим физическим или интеллектуальным данным» [Падучева, 2014], а агенсам приписываются возможные, гипотетические действия, которые не совершались в объективной реальности в прошлом, а могли осуществиться только при выполнении условия, указанного в придаточном предложении, которое начинается сочетанием в случае, выступающим в роли предлога со значением «если случится, если произойдет что-либо» (БТС, с. 223).
В примере (9) модальным оператором выступает лексема должен в сочетании с глаголами в личной форме было и инфинитиве использоваться ( однако, должно было использоваться в целях и интересах всех соучастников ). В данном случае можно говорить об эпистемической необходимости, когда говорящий / пишущий выражает свое убеждение, базирующееся на основании анализа наблюдаемых результатов этого события (явления), в высокой вероятности ситуации [Падучева, 2014].
Заключение
Представленные факты доказывают значимость речевого оформления юридических документов в целом и процессуальных в частности. Существующая терминология и устойчивые обороты изначально содержат смысловые противоречия, которые усиливаются при комбинации некоторых выражений в описательно-мотивировочной части процессуального документа.
Анализ синтаксической структуры предложений показывает, что в документах при описании событийного ряда нет четкого лингвистического разграничения фактически совершенного действия, которое приписывается субъектам как возможное, и гипотетического действия, что влияет на квалификацию состава преступления. Это свидетельствует о том, что нарушение языковых норм может повлечь за собой не только нарушение коммуникативной функции, но и правовые последствия.
Проведенный анализ позволил сделать вывод о необходимости выработки четких критериев речевого оформления процессуальных документов. Избежать ошибок в толковании и выявить нарушения языковых норм в процессуальном документе даст возможность лингвистическая экспертиза документов.
Список литературы Речевые особенности процессуальных документов (на примере постановления)
- Апресян Ю. Д., 1995. Проблема фактивности «знать» и его синонимы // Вопросы языкознания. № 4. С. 43-63.
- Глазков А. В., 2016. Актуальность содержания текстов: тексты неактуального содержания // Наука о человеке: гуманитарные исследования. № 3 (25). С. 52-58. DOI: 10.17238/ issn1998-5320.2016.25.52.
- Гулакова И. И., Чаплыгин В. Н., 2015. К вопросу о речевой культуре следователя при составлении процессуальных документов // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Орел : ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова. С. 139-143.
- Егорова Е. Н., 2016. Язык судебного документа: узус и кодификация // Симбирский научный вестник. № 4 (26). С. 120-126.
- Зайцева И. Д., 2010. Постановление как речевой жанр // Филология и человек. № 3. С. 142-149.
- Кобозева И. М., 2009. Семантика глагола «понимать»: от пропозиционального отношения к межличностному // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам Международной конференции «Диалог». Т. 8. М. : Изд-во РГГУ. С. 176-180.
- Никонов А. В., Горкина Е. В., 2017. Значение языка и стиля процессуальных документов в уголовном судопроизводстве // Вестник Волгоградской академии МВД России. № 4 (43). С. 152-157.
- Падучева Е. В., 2004. Динамические модели в семантике лексики. М. : Яз. слав. культуры. 609 с.
- Падучева Е. В., 2014. Модальность // Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики. URL: http://rusgram.ru (дата обращения: 09.12.2019 ).
- Рыжаков А. П., 2014. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. Доступ из справ.-правовой ситемы «Кон-сультантПлюс».
- Титаев К., Шклярук М., 2015. «Языком протокола»: исследование связи юридического языка с профессиональной повседневностью и организационным контекстом // Социология власти. Т. 27, № 2. С. 168-206.
- Dijk van, T. , 1976. Philosophy of action and theory of narrative // Poetics. Vol. 5, iss. 4. P. 287-338. DOI: 10.1016/0304-422X(76)90014-0.
- Tiersma P., 1999. Legal Language. Chicago : Univ. of Chicago Press. 328 p.
- БТС - Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2008. 1536 с.
- МАС - Словарь русского языка. В 4 т. Т. 4 : С-Я / под ред. А. П. Евгеньевой. М. : Рус. яз. : По-лиграфресурсы, 1999. 797 с.
- НОССРЯ - Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. 2-е изд., испр. и доп. М. : Яз. слав. культуры; Вена : Wiener slavistische almanach, 2004. 1417 с.
- РСС - Русский семантический словарь : Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / под общ. ред. Н. Ю. Шведовой. М. : Азбуковник, 1998. URL: http:// slovari.ru/default.aspx?s=0&p=235 (дата обращения: 10.11.2019).