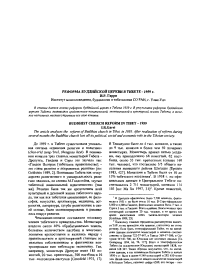Реформа буддийской церкви в Тибете - 1959 г
Автор: Гарри Ирина Регбиевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье дается анализ реформы буддийской церкви в Тибете 1959 г. В результате реформы буддийская церковь Тибета, являвшаяся средоточием политической, экономической и культурной жизни Тибета, в течение нескольких месяцев утратила все свое влияние.
Короткий адрес: https://sciup.org/148178420
IDR: 148178420
Текст краткого сообщения Реформа буддийской церкви в Тибете - 1959 г
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ
В статье дается анализ реформы буддийской церкви в Тибете 1959 г. В результате реформы буддийская церковь Тибета, являвшаяся средоточием политической, экономической и культурной жизни Тибета, в течение нескольких месяцев утратила все свое влияние,
BUDDHIST CHURCH REFORM IN TIBET -1959
-
I .R.Garri
The article analyses the reform of Buddhist church in Tibet, in 1959. After realization of reform during several months the Buddhist church lost all its political, social and economic role in the Tibetan society.
До 1959 г. в Тибете существовала уникальная система «единения религии и политики» (chos-srid zung-'brel, zhengjiao heyi). В понимании монахов трех главных монастырей Тибета -Дрепунга, Гандена и Сэры это звучало так: «Ганден Пхотран [тибетское правительство] -это глава религии и покровитель религии» [по: Goldstein 1989, 2]. Понимание Тибета как «государства религиозного и универсальность религии» являлось, по словам МГолдстейна, «сутью тибетской национальной идентичности» [там же]. Религия была так же средоточием всей культурной и духовной жизни тибетского народа, так как вся тибетская цивилизация, ее философия, искусство, архитектура, медицина, астрология, литература, сугубо религиозные в своей основе, были сконцентрированы и развивались вокруг религии.
Чиновники-монахи составляли половину членов тибетского правительства. Монастыри владели около 40% обрабатываемых земель, большим количеством пастбищ и многочисленными крепостными и являлись наряду с правительством и аристократией главным земельным собственником и фактически контролировали всю тибетскую экономику. Так, например, монастырь Дрепунг имел 185 поместий, 20 тыс. крепостных, 300 пастбищ и 16 тыс. скотоводов-пастухов [Grunfeld 1975, 17],
В Ташилунпо было до 4 тыс, монахов, а также до 9 тыс. монахов в более чем 50 дочерних монастырях. Монастырь правил пятью уездами, ему принадлежало 68 поместий, 62 пастбища, около 33 тыс. крепостных (свыше 160 тыс. человек), что составляло 3/5 общего населения нынешнего района Шигацзе [Epstein 1983, 427]. Монахами в Тибете были от 10 до 15% тибетского населения1. В 1958 г. по официальным данным в Центральном Тибете насчитывалось 2 711 монастырей, монахов 114 103 [по: Ma Хи 1997, 31]2. Кроме поместий, пастбищ и крепостных, монастыри также занимались торговой деятельностью и давали ссуды под проценты. Хотя доходы монастырей и были очень высокими, однако, они давали монахам очень ограниченное пропитание. Львиная доля монастырских доходов предназначалась для проведения религиозных церемоний, на которых присутствующие монахи могли лишь получать еду. Если учесть и то обстоятельство, что большая часть доходов правительства тратилась не на деятельность правительства, а на религию, не говоря уже о простом населении, то можно себе представить, насколько значительной и соответственно затратной была религиозная деятельность в тибетском традиционном обществе'. Важно заметить при этом, что все религиозные пожертвования были добровольными, так как считалось, что они идут на всеобщее благо живых существ.
Религиозная система Тибета была фактором застойности и консервативности тибетского общества. М.Голдстейн по этому поводу писал: «Хотя религия была, с одной стороны, однородной силой в тибетской политике, с другой стороны, была также фрагментарной и конфликтной силой. Соревнование между различными религиозными группировками в целях увеличения своего влияния, престижа и отсутствие согласия на предмет того, какая политика более соответствует интересам религии, были бедствием в истории Тибета XX столетия. Также, массовая монашеская идеология и ежегодный цикл праздничных молебствий вынуждали монастыри непрерывно изыскивать еще большее количество земель и пожертвований и решительно противиться любым попыткам со стороны правительства уменьшить их доходы. Это сделало их и главными адвокатами помещичье-крепостной экономической системы и, вследствие этого, крайне консервативными. Каждый раз, когда Тибет в XX в. пытался воспринять быстрые перемены, религия и монастыри играли главную роль в том, чтобы этому прогрессу помешать» [Goldstein 1989, 37]. Неудивительно поэтому, что наиболее консервативной силой, категорически не принявшей китайские реформы, и на этот раз стала буддийская цер- ло 4000 [по: Norbu 1997, 285]. Вследствие того, что цифры расходятся, можно, наверное, принять, что в Большом Тибете в начале 1950 гг. было около 4-5 тыс. монастырей, цифра колоссальная при любом рассмотрении.
-
1 Например, на религиозные праздники в первый и второй месяцы по лунному календарю уходило ежегодно 62% годового дохода Потопы.
ковь Тибета, и именно поэтому проблема религии стала одной из наиболее трудноразрешимых проблем, с которыми пришлось столкнуться китайскому правительству в Тибете.
После мартовского восстания и бегства Далай-ламы в Индию тибетские монастыри, будучи «оплотом мятежников», стали наряду с аристократией главным объектом борьбы. В отношении монастырей проводилась та же политика, что и по отношению к аристократии. Земли и поместья участвовавших в восстании монастырей, а их было большинство, подверглись конфискации, не участвовавших - выкупу со стороны государства. В отношении первой категории монастырей проводились движение «против трех» (мятежа, личной зависимости, особых феодальных прав) и движение за «сведение трех счетов» (счет за политический вред, счет за разного рода экономическое подавление, счет за экономическую эксплуатацию). Реформы должны были разрешить четыре вопроса: подавление мятежа; уничтожение особых феодальных прав и феодальной эксплуатации монастырей; осуществление демократического управления монастырей; осуществление политики свободы вероисповедания [Xizang zongjiao 2001, 167]. Главной целью при этом было: «уничтожение собственности на средства производства монастырей, уничтожение эксплуататорской системы в виде ссуд под высокие проценты, долговых, принудительных обязательств, транспортной повинности, а также системы феодального управления; зашита свободы вероисповедания, патриотических и законопослушных монастырей, исторических памятников, правильной религиозной деятельности; регулирование монастырей и количества монахов и монахинь, устройство их жизни, патриотических лам из высших кругов и священнослужителей, снявших монашеский сан, организация демократического правления монастырей» [там же].
Вышеизложенная политика в отношении религии и монастырской системы означала на практике уничтожение ведущей экономической и политической роли буддийской церкви в Тибете. Монастыри были объявлены «рассадником мятежа», по этой причине реформа монастырской системы становилась важнейшим направлением борьбы с мятежом, в результате которой большинство монастырей было закрыто, десятки тысяч монахов были убиты, репрессированы или бежали за границу. К осени 1960 г. в монастырях были проведены демократические реформы, которые све- лись в основном к конфискации земель и поместий «мятежных» монастырей и выкупу у немногих «патриотических». Из не принимавших участие в восстании самую большую компенсацию в 9 млн юаней получил монастырь Ташилунпо [Epstein 1983,417].
Уничтожение экономической базы монастырей лишило десятки тысяч монахов, или 10% населения Тибета, средств к существованию, и стало по словам Ц.Шакьи «самым значительным социальным и политическим событием в истории Тибета со времени принятия буддизма» [Shakya 1999, 254]. Кампания за массовое возвращение монахов в «мир» и их приобщение к производительному труду проходила под лозунгом обеспечения «свободы вероисповедания». Под этим подразумевалось, что подавляющее большинство монахов стали ими не по своей воле. В результате, в Дрепунге из 10 тыс. монахов к 1965 г. осталось 715, среди которых 512 - из беднейших слоев [Epstein 1983, 422], в 1976 г. их оставалось 306 [там же, 424]. В «патриотическом» Ташилунпо после демократических реформ из 4 тыс. монахов оставалось 1980, т.е. количество монахов сократилось вдвое. Значительная часть покинувших монастырь монахов возвратилась в родные деревни и стала заниматься сельскохозяйственным трудом, многие ушли на промышленные работы, некоторое количество стало кадровыми работниками, часть обзавелась семьями. Репрессии против монашества и приобщение их к «труду»1 глубоко ранили религиозные чувства тибетцев. Простые люди отказывались видеть в монахах общественных паразитов, что они могли допускать в отношении аристократии. Подношения монастырям и ламам было с их стороны добровольным, богатство монастырей, накопленное ими в течение столетий, состояло во многом за счет добровольных пожертвований со стороны населения. Более того, почти каждого тибетца с монастырем связывали узы родства с обитающими там монахами, поэтому реформа монастырской системы встретила со стороны тибетцев самое большое возмущение.
Если земли и поместья монастырей были распределены среди непосредственных производителей, ранее трудившихся на этих землях, то деньги и сокровища монастырей были пол- ностью конфискованы в качестве контрибуции. По рассказам очевидцев, бывшие крепостные и «рабы» получали лишь старую мебель, одежду, сельхозорудия и утварь бывших собственников, в то время как основное богатство «уплывало» за пределы Тибета. Так, например, в 1965 г. была организована выставка тибетской революции, на которой была выставлена опись частных сокровищ Далай-ламы, не считая того, что он вывез за границу. Среди самых ценных предметов перечислялись 110,328 унций золота, 5 млн юаней серебром, 20.331 драгоценных камней, 14,675 штук предметов одежды, общей стоимостью 98 млн юаней, или 41 млн американских долларов [Epstein 1983, 412]. Конфискованные богатства становились «всенародной собственностью», т.е. полностью поступали в распоряжение государства. В начале 1980-х гг. часть конфискованного имущества монастырей была им возвращена, однако значительная часть, по свидетельствам очевидцев, оказалась на аукционах Гонконга и Тайваня, а затем была продана на Запад и в другие страны.
Вот как, например, проходили реформы в монастыре Дрепунг [по: Goldstein 1998, 23-25]. Подавляющее большинство монахов Дре-пунга не были активными участниками восстания, хотя безоговорочно поддерживали Далай-ламу. Но поскольку часть монахов защищала Летний дворец и сражалась в Лхасе, Дрепунг был объявлен восставшим, все его владения и амбары были конфискованы без компенсации, все долговые обязательства монастырю уничтожены. По китайским подсчетам, Дрепунг в то время владел 140,000 тоннами зерна и 10 миллионами юаней (5 млн. долларов) в займах. Приток дохода, поэтому полностью прекратился.
Монастырская жизнь и административная структура были также полностью изменены. В монастырь была послана рабочая группа (las don ru khag), чтобы принять монастырь на попечение. Она сразу же взяла власть в свои руки и назначила новый административный комитет, избранный из беднейших и «прогрессивных» монахов. Новая администрация стала называться Комитетом демократического управления. Эта структура действует во всех монастырях и поныне. Первой основной задачей рабочих групп было разделение монахов по классовому признаку. Монахи, участвовавшие в восстании, а также почти все руководство были квалифицированы как «эксплуататоры» и посажены в тюрьму или отправлены в рабочие лагеря. Остальных подвергли в течение нескольких месяцев «обучению» новой социалистической идеологии, согласно которой каждый индивид обязан заниматься продуктивным трудом. Всех монахов агитировали за возвращение домой и занятия немонашеской работой. Количество монахов резко сократилось, и к концу 1959 г. их осталось всего около 400. Через несколько месяцев политического перевоспитания и реорганизации монастыря, оставшихся монахов отправили на «добровольную» работу. По воспоминанию одного монаха:
«Сначала мы ели монастырскую пищу там, где мы жили, после того, как многих монахое выслали и общее количество резко сократилось, оставшиеся монахи собрались в дацане Поселил, где мы ели все вместе. Через 5-6 месяцев монастырские запасы кончились. Однако к этому времени мы уже были заняты продуктивным трудом, поэтому мы добывали себе пищу этим трудом. В это время только старые монахи оставались в монастыре. Все молодые монахи отсутствовали, работая на различных проектах. Возвращались в монастырь по-разному, некоторые раз в неделю, некоторые каждый день. Работы не были постоянными. После того как закончились совместные трапезы, нас поделили на более маленькие рабочие группы, которые работали и ели сообща; у нас, к примеру, были группы портных, каменщиков, строителей, плотников и группа сборщиков топлива. Позже некоторые из этих групп были разделены еще раз. Каждая группа, соответственно, имела свои средства к жизни и питалась сообща. Цзампу делили между монахами, а масло держали сообща, чтобы готовить чай для всех. Монахи раздельно ели цзампу, а чай пили вместе. Старые монахи, которые не могли работать и не хотели возвращаться домой, были организованы в «группы старых людей» и жили на субсидии от государства».
К 1965 г. из 10 000 монахов Дрепунга осталось всего 715. Физическая оболочка Дрепунга сохранялась, и монахи, сохранившие обеты, молились у себя в комнатах, однако институциональная религиозная деятельность - совместные молебны и теологическая программа «рощи дхармы»1 - закончилась. Монастырь перестал существовать как институт, где практикуется религиозное обучение, диспуты и ритуалы.
Подобная же участь постигла практически все монастыри Тибета. Таким образом, всего несколько месяцев потребовалось китайским властям в Тибете для того, чтобы покончить с ведущей экономической и политической ролью буддийской церкви. Разрушение храмов и монастырей, уничтожение предметов культа, репрессии против духовенства и аристократии, создание бригад взаимопомощи серьезно обострили обстановку в Тибете, вызвав недовольство в широких кругах населения.
Список литературы Реформа буддийской церкви в Тибете - 1959 г
- E.Epstein. Tibet Transformed. Beijing: New World Press, 1983.
- M.C.Goldstein. A History of Modern Tibet, 1913-1951. University of Caifornia Press, 1989.
- M.C.Goldstein. The Revival of Monastic Life in Drepung Monastery//Buddhism in Contemporary Tibet, Religious Revival and Cultural Identity/Ed. By M. Goldstein and T. Kapstein. Berkeley, 1998.
- N.Grunfeld. The Making of Modern Tibet. NY: M.E. Sharpe, 1987.
- Jia Guangrong. Zhongguo Zangchuan fojiao simiao. Beijing: Zhongguo Zangxue chubanshe, 1994
- Цзя Гуанжун. Тибетские буддийские монастыри Китая. Пекин: Изд-во китайской тибетологии, 1994
- Ma Xu. Xizangde jingji xingtai ji qi bianqian//Xizang shehui fazhan yanjiu. Beijing, 1997
- Ma Сюй. Экономическая ситуация в Тибете и ее динамика//Изучение социального развития Тибета. Пекин, 1997
- Dawa Norbu. Tibet. The Road Ahead. HarperCollins Publishers, India, 1997.
- Tsering Shakya. The Dragon in the Land of Snows. Penquin Compas, 1999.
- Xizang zongjiao yu shehui fazhan guanxi yanjiu. Xizang renmin chubanshe, 2001
- Исследование религий Тибета и их взаимосвязи с социальным развитием. Тибетское народное издательство, 2001.