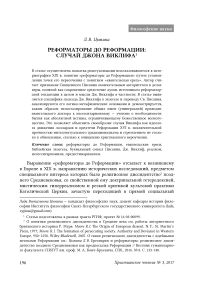Реформаторы до реформации: случай Джона Виклифа
Автор: Цыпина Лада Витальевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3 (74), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществлена попытка реактуализации использовавшегося в исто- риографии XIX в. понятия «реформаторы до Реформации» путем установ- ления точек его пересечения с понятием «евангельская ересь». Автор счи- тает признание Священного Писания окончательным авторитетом в делах веры, понятой как сокровенное средоточие души, источником реформатор- ской тенденции в целом и мысли Дж. Виклифа в частности. В статье выяв- ляется специфика подхода Дж. Виклифа к экзегезе и переводу Св. Писания, анализируются его логико-метафизические основания и демонстрируется, каким образом гипостазирование общих имен (универсалий) приводит евангельского доктора к несесситарионизму - учению о необходимости бытия как абсолютной истины, ограничивающему Божественное всемогу- щество. Это позволяет объяснить своеобразие случая Виклифа как идеоло- га движения лоллардов и предтечи Реформации XVI в. исключительной прочностью интеллектуального традиционализма и стремлением не столь- ко к обновлению, сколько к очищению христианского вероучения
Реформаторы до реформации, евангельские ереси, библейская экзегеза, буквальный смысл писания, дж. виклиф, реализм, несесситарионизм, предестинарианизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140190306
IDR: 140190306
Текст научной статьи Реформаторы до реформации: случай Джона Виклифа
протест. Немецкий историк и богослов К. Х. Ульман (1796–1865) предложил использовать эту собирательную характеристику для разнородных протопротестантских движений в Германии в работе «Иоганн Вес-сель, предшественник Лютера» (1834), которая впоследствии разрослась в двухтомное сочинение «Реформаторы до реформации главным образом в Германии и Нидерландах» (1841). Это направление исследований и вместе с ним использованное Ульманом меткое словосочетание было подхвачено французским историком и писателем Ф. П.Э. де Боншозом (1801–1876), который расширил его хронологию и географию в своем двухтомном исследовании «Реформаторы до Реформации (XV век): Ян Гус и Констанцкий собор» (1845)3.
Немецко-американский богослов Ф. Шафф (1819–1893) — автор восьмитомной «Истории христианской церкви» (1858–1890), охватывающей исторический период от Рождества Христова до Реформации в Германии и Швейцарии, — посвятил предшественникам реформаторов XVI в. специальную главу, охарактеризовав своеобразие их исторической миссии следующим образом: «Звание реформаторов до Реформации было заслужено присвоено группе христиан, живших в XIV–XV веках и предвосхитивших многие учения Лютера и протестантской Реформации. Эти люди были одиночками и выделяются среди своих современников: Виклиф в Англии, Ян Гус в Богемии, Савонарола во Флоренции, Вессель, Гох и Везель в Северной Германии. <…> За исключением морального реформатора Савонаролы они выражали открыто несогласие с церковным обрядом и доктриной и этим отличаются от группы немецких мистиков, которые стремились к спокойному очищению жизни. Они отличаются также от группы церковных реформаторов: Д’Альи, Жерсона Николы Клеманжа, которые признавали рамки канонического права и не шли дальше исправления злоупотреблений в области управления церковью и ее морали»4.
Русский историк и этнограф В. М. Михайловский (1846-1904) — редактор перевода программной для последней четверти XIX в. четырехтомной «Истории Реформации» профессора всеобщей истории Гейдельбергского университета Л. Гейссера (1818–1867) — предварил издание своими размышлениями об идейных предпосылках Реформации. В очерке «Предвестники и предшественники реформаци и в XIV‒ XV вв.» Михайловский объединил учения британца Дж. Виклифа и чеха Я. Гуса рубрикой «реформаторы до Реформации», сделав это выражение достоянием отечественной историографии5. Он подчеркнул отличие этих учений как от мистического благочестия со свойственной ему созерцательностью и идеалом священного покоя ( otium sacrum ), так и от движения политической эмансипации светской власти от власти церковной, раскалывающего средневековое единство Церкви и империи. На примере реформаторской деятельности Виклифа Михайловский сделал попытку представить алгоритм формирования протопро-тестантского движения, рассмотрев его как «строго развивающийся процесс: сначала идет политическая борьба с Римом — время простой оппозиции; потом следует борьба против папской церкви и ее учреждений; оппозиция усиливается, и реформатор переходит от практических вопросов к вопросам религиозным. Наконец, наступает время борьбы с римско-католической догмой; автор из простого критика обращается в творца целой богословской системы»6.
К числу реформаторов до Реформации в исторической науке XIX в. относили создателей достаточно гетерогенных учений, которые сегодня объединяются под рубрикой «евангельских ересей»7. Их своеобразие в пространстве религиозного диссидентства XII-XIV вв. определяют следующие черты:
-
1. Безусловный приоритет Священного Писания над Преданием Церкви (fides historica ) с вытекающим из него требованием личного изучения Библии, которая должна стать доступной верующим на родном (народном) языке. «А что отыщется в этой Библии, ставшей ныне доступною? Живой Бог, человечный, родной. Тот, кого уже научилось изображать искусство, — трогательный и вызывающий сострадание; и вот он заговорил, и все Евангелие, спихнувшее свою латынь, показывает его простым и свободным в обращении <…>; и что дарует он людям, одному за другим? Уверенность»8.
-
2. Акцентуация внутренней веры ( fides implicita ) как сокровенного средоточия души, подлинной жизни сердца ( vita cordis ) в противовес внешнему пребыванию в лоне Церкви ( fides explicita ). Напряжение между мистическим и схоластическим элементами религиозной жизни в ситуации отсутствия ясно сформулированного экклезиологического догмата позволяет поставить под вопрос «знак равенства» между Богом и институциональной Церковью. Уже не Церковь как посредник определяет все стороны отношений Бога и человека, а сам человек, и таким образом средоточие Церкви переносится с общности на личность»9.
-
3. Ясно различимая реформаторская тенденция к преобразованию жизни, которое могло бы обеспечить возвращение христианства к евангельской простоте и чистоте первоначальной Церкви, лишив клириков исключительного права на священнослужение и проповедь в силу того, что само это право должно считаться всеобщим достоянием человеческой природы. Продолжающийся социальный эффект евангельских ересей связан с тем, что церковной практике исключения инакомыслящих противопоставлялось такое же бескомпромиссное исключение «мерзости запустения в святилище». По справедливому замечанию русского историка П. Н. Кудрявцева: «Потребность реформы была велика, она, наконец, была в самом воздухе. Лютер мог бы явиться еще в XIV веке, если бы все дело состояло только в известном образе мыслей»10.
Как раз образ мыслей Джона Виклифа (1324-1384) — оригинального богослова, наследника «золотого века схоластицизма» в Англии, ревностного исследователя Библии и переводчика Нового Завета на среднеанглийский язык, ересиарха поневоле и «непревзойденного религиозного памфлетиста» (Ф. Шафф) — проливает свет на своеобразие позиции реформаторов до Реформации. Случай Виклифа11 демонстрирует исключительную прочность интеллектуального традиционализма со свойственной ему рефлексией собственных оснований, которая оказывается радикальней самого нового радикализма. Мыслитель, которого называют «утренней звездой Реформации» за «отчетливо усматриваемые протестантские траектории его сочинений»12, ставшие впоследствии идейными предпосылками лоллардизма13 — первого трагически прерванного массового реформационного движения в Англии, и постулатами победившей в XVI в. англиканской Реформации, скорее является «вечерней звездой схоластицизма». Неслучайно Джеффри Чосер (1343– 1400) — знаменитый современник Виклифа, родоначальник английского литературного языка и «отец английской поэзии» — в прологе к «Кентерберийским рассказам» описал его в образе доброго пастыря (kindly Parson), идеальные черты которого на фоне остросоциальных портретных зарисовок, дающих представление об английской жизни XIV столетия, выглядят нарочито архетипично и ретроспективно:
«Священник ехал с нами приходской, Он добр был, беден, изнурен нуждой. Его богатства — мысли и дела, Направленные против лжи и зла. Он человек был умный и ученый, Борьбой житейской, знаньем закаленный. Он прихожан Евангелью учил
И праведной простою жизнью жил. <…> Не ждал он почестей с наградой купно И совестью не хвастал неподкупкупной; Он слову божью и святым делам Учил, но прежде следовал им сам»14.
В защиту нашего тезиса о радикальных следствиях традиционализма Виклифа конспективно рассмотрим, как редукция к основаниям собственной мысли приводит оксфордского доктора в стан ересиархов. Начнем с принципиального для Виклифа отношения к тексту Священного Писания, ставшего предметом специального анализа в работе «Об истине Священного Писания» ( De veritate Sacrae Scripturae , 1378) и в одном из последних комментариев на Евангелия, так называемом
«Евангельском сочинении» ( Opus Evangelicum , 1883). В основание христианской веры Виклиф полагает liber vitae — «книгу жизни» (Откр 20:12), т. е. Библию, которая необходимо должна предшествовать любому человеческому установлению как «непогрешимый закон Господа, истиннейший, полнейший и вседостаточный»15. Важно иметь в виду, что мыслитель распространяет это утверждение и на Ветхий, и на Новый Заветы, оба Завета даны человеку неискаженным образом ( indefectibiliter ) и являются полностью аутентичными ( autentici ) чистоте замысла их автора ( pure ad sensum autoris ), т. е. Бога. Писание можно сравнить с «идеальным кодом» жизни отдельного человека и всего человечества. Виклиф формулирует это следующим образом: «Ибо подобно тому, как след Троицы находит свое отражение в каждом существе, так в каждой из книг Нового Завета, являющихся книгами Христа и Духа Святого, просвечивает определенное совершенство, которое ясно в книгах любому существу; потому что тот, кто смотрит на себя в зеркало, видит, как выглядит подобие его лица во многих зеркалах, так смотря на любые части священных писаний, он видит начало, середину и конец, с помощью которых приобретает блаженство»16. Именно поэтому Библия должна быть в сердце и в руках у каждого верующего христианина. Поскольку возрастание в духе невозможно без понимания Священного писания, Виклиф вступает в знаменательную дискуссию о переводе Библии.
В ходе этой дискуссии он выступает как оригинальный экзегет, автор «Постиллы ко всей Библии» (лат. Postilla super totam Bibliam, 1381– 1386)17 — пространного комментария ко всем книгам Писания, полемиче- ски заостренного против оксфордских номиналистов, которых он уничижительно называет «наставниками в знаках» (doctores signorum). Следуя за учением о «двойственном буквальном смысле» (duplex sensus litteralis) Писания Николая из Лиры, Виклиф осуществляет пересмотр традиционной доктрины о смыслах Писания — буквальном, аллегорическом, тропологическом (моральном) и анагогическом (мистическом). «Буквальный смысл — это содержание библейского речения, в противоположность аллегории, которая есть ни что иное, как способ восприятия нами этого содержания, вложенного в священный текст его Автором. Таким образом, буквальный и духовный, или мистический, смыслы различаются только quoad nos, но не per se»18. Из этого следует, что идеалом экзегезы для Виклифа является постижение смысла без помощи слов, поскольку «все Писание есть единый великий Глагол Божий»19. Необходимо стереть искусно поддерживаемые церковными иерархами различия между клириками (clerici) и мирянами (laici), это станет возможным лишь тогда, когда Библия станет для последних «открытой книгой» (Дан 7:10) на родном языке. Английской Библии20 не было бы без доверия Виклифа потенциальному читателю и реабилитации буквального смысла Писания. Метафизической основой его экзегетических штудий стало возрождение реалистической метафизики.
Виклиф как мыслитель сформировался в атмосфере Окфордского университета, вышедшего к XIII в. из тени своего знаменитого собрата — университета Парижского и пережившего между 1315 и 1340 гг. «золотой век английского схоластицизма». «Логические и метафизические теории Виклифа являются в одно и то же время окончательным результатом предшествующей реалистической традиции мысли (сам Виклиф представляет ядро своей метафизики, т. е. теорию универсалий как промежуточную между теориями Фомы Аквинского, Жиля Римского и Вальтера Бурлея) и точкой отсчета для новых выдвинувшихся в Европе на рубеже XIV-XV вв. форм реалистической метафизики»21. Квинтэссенцией метафизики Виклифа принято считать «Сумму о бытии» (Summa de ente) в двух книгах, содержащих семь и шесть трактатов соответственно. Тяготея к ультрареализму, Виклиф гипостазирует все возможные общие имена (универсалии), отстаивая существование неразрывной цепи бытия от первообразов в божественном уме (esse ideale) через потенциальное бытие сущего, содержащееся в причинах (esse essentiae, esse in genere) до бытия индивидуальных, реализованных во времени и пространстве материального мира вещей (esse existere individuum). Мыслитель отождествляет умопостигаемое бытие идей с вечностью Божественного бытия, связав Творца и творение необходимой связью. Универсалии согласно Виклифу существуют трояким образом:
-
1) ante rem , как существующие до вещей идеальные первообразы Божественного интеллекта, архетипы всего существующего;
-
2) in re , как существующие в вещах их формальные принципы; причем общие природы, разделяемые индивидуальными вещами, существуют вне ума реально (лат. in actu ), а не потенциально ( in potentia) , как полагали умеренные реалисты; они действительно тождественны своим индивидуальным природам;
-
3) post rem , как существующие после (познания) вещей интенциональные знаки ума, с помощью которых обозначается универсальное в вещах.
«При построении собственной онтологии Виклиф <...> 1. меняет отношения между бытием и истинной ( verum ); и 2. использует несколько более традиционную технику для разъяснения отношений между бытием, Богом и творениями. Краеугольным камнем метафизики Викли-фа является понятие бытия ( ens ) как истины ( veritas ), которая может быть обозначена как простым, так и сложным высказыванием. Тогда как главным принципом, ведущим его в описании внутренней структуры реальности, является гомология ментального языка и мира, в соответствии с которой наши мысли спонтанно моделируют собственную реальность так, что содержание и выражение наших идей являются полностью объективными»22. Виклиф не видит смысла в различении между тем, что Бог знает как объект для себя, и тем, что он знает как идею, Бытие в истинном смысле ( esse intelligibile ) — это все, что возможно и умопостигаемо.
Хотя сотворенные вещи случайны в своем временном существовании, они вечны и необходимы в своей возможности быть. Отсюда вытекают радикальные следствия его метафизической позиции: все, что случилось или должно случится, прошлое или будущее, есть настоящее. Все, что совечно Богу, т. е. все, что было или будет, необходимым образом есть. Разница между случайностью и необходимостью минимизируется Виклифом благодаря утверждению неуничтожимости бытия. Логический и метафизический несесситарионизм ( necessitarianism ), ограничивающий Божественное всемогущество, окрашивает предложенную евангельским доктором концепцию предопределения, помещенную в контекст учения о Церкви23.
Во вводной части трактата «О Церкви» (De ecclesia, 1378‒1379) Виклиф определяет истинную Церковь как сообщество всех, предопределенных к спасению (congregacione omnium predestinatorum). Именно эту Церковь евангельский доктор называет «невестой Христовой» (sponsa Christi) и «царствием Небесным» (regnum celorum). Отверженные Богом исключены из членства в истинной Церкви, хотя они могут не знать об этом. Разделение предопределенных к спасению (praedestinati) действительных членов Тела Христова (corpus Christi) и предопределенных к вечному осуждению (praesciti) связано с августиновским различением видимой и невидимой Церквей. Построение Виклифа более сложно, он делит Церковь Христову на три части. Ее первая часть, или «превзошедшие», — святые и ангелы пребывают в блаженстве со Христом. Ее вторую часть составляют святые, находящиеся в чистилище для очищения забытых грехов. Их можно назвать «спящими». Третью часть Церкви составляют люди, живущие подлинно христианской жизнью здесь, на земле. Их Виклиф называет «сражающимися». То есть церковь настоящего времени, согласно Виклифу, состоит из «овец и козлищ», хотя он далек от утверждения об абсолютном предопределении, так как людям неведомы пределы Божьего милосердия. Мыслитель убежден, что «Бог предопределил хороших людей к небесному блаженству, также Он предопределил и то, что достичь его они могут лишь проповедью и хранением Божьего Слова»24. Лишь Спаситель — источник упования на обретение вечной жизни, поэтому Виклиф со страстью реформаторов XVI в. утверждает, что «вера есть все богословие» и «вся философия есть только Христос, Бог наш»25.
Несмотря на то что в обширном и гетерогенном наследии Виклифа отчетливо намечены стратегии, приведшие Лютера к его знаменитым Soli , теология, метафизика и экзегетика евангельского доктора укоренены в средневековой традиции. Впервые следуя путеводной нити Евангелия, против официальной доктрины католицизма выступил мыслитель, равный по своей учености и умению аргументировать выдающимся схоластам Средневековья. Причудливое переплетение традиционных и новаторских воззрений в наследии Виклифа позволяет включить его в плеяду реформаторов до Реформации, которые стремились не столько к преодолению традиции, сколько к самоузнаванию и самообретению в ней.