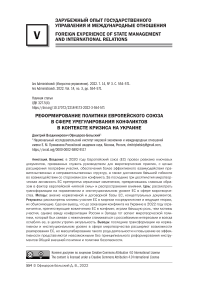Реформирование политики Европейского Союза в сфере урегулирования конфликтов в контексте кризиса на Украине
Автор: Офицеров-бельский Д.В.
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Зарубежный опыт государственного управления и международные отношения
Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: в 2020 году Европейский союз (ЕС) провел ревизию ключевых документов, призванных служить руководством для миротворческих практик, с целью расширения географии участия, обеспечения более эффективного взаимодействия правительственных и неправительственных структур, а также достижения бо́льшей гибкости во взаимодействии со сторонами зон конфликта. За последние три десятилетия миротворческая активность ЕС претерпела серьезные изменения, превратившись главным образом в фактор европейской «мягкой силы» и распространения влияния.
Миротворчество, ес, общая внешняя политика и политика безопасности, общая политика безопасности и обороны, постсоветское пространство, украина
Короткий адрес: https://sciup.org/147246734
IDR: 147246734 | УДК: 327.5(4) | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-3-554-571
Текст научной статьи Реформирование политики Европейского Союза в сфере урегулирования конфликтов в контексте кризиса на Украине
of Science, Moscow, Russia, ,
В 2012 году Европейский союз (ЕС) удостоился Нобелевской премии мира. Награда была поощрением в сложной ситуации, связанной с кризисом европейского проекта, безуспешными попытками его реформирования (Офицеров-Бельский, 2021), проблемой греческого долга и общим падением взаимной лояльности государств – членов ЕС. Объявляя награду, Нобелевский комитет подчеркнул роль Евросоюза в укреплении мира между государствами-участниками, а также в продвижении демократии через расширение и поддержку примирения и уважения прав человека за пределами ЕС.
Однако формирование в последние годы «пояса нестабильности» вокруг ЕС, охватывающего страны Магриба, Ближнего Востока, Балканского полуострова и часть стран постсоветского пространства, заставляет задуматься о том, какую роль в этом сыграли, вольно или невольно, сами европейцы, а также об эффективности их миротворческой политики. В данной статье я высказываю предположение, что миротворческая политика ЕС является, с одной стороны, инструментом сплочения сообщества в рамках Общей внешней политики и политики безопасности, а с другой – представляет собой один из инструментов распространения влияния и эволюционирует прежде всего именно в этом качестве.
Имеющаяся практика миротворчества позволяет мне задать ряд вопросов:
-
1. При каких условиях и на основании каких мотивов EC участвует в посредничестве в гражданских конфликтах?
-
2. Объясняется ли миротворческое участие интересами отдельных государств – членов ЕС или же преобладают общие принципы, позволяющие говорить именно о европейской политике?
-
3. Каким образом меняется содержание и подходы миротворческих практик и чем определяется вектор реформирования нормативной базы, устанавливающей принципы миротворческого участия ЕС?
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
Ставший уже традиционным для исследований миротворчества и международного посредничества фокус на роли международных институтов почти неизбежно приводит к обсуждению гуманитарных намерений и абстрагированию от интересов великих держав, тогда как акцент на национальной роли позволяет избежать значительных лакун понимания. Европейские исследователи, как правило, склонны настаивать на преобладании в европейской политике ценностей и объясняют ее через призму нормативного подхода. Это позволяет рассматривать политику ЕС как монолитную, а различия позиций государств – участников ЕС как несущественные.
Когда я говорю о европейской политике, то имею в виду не только политику ЕС, но и его государств-членов, если их действия не становятся причи- ной очевидных противоречий и конфликта внутри объединения. В основном следует считать, что отдельные государства могут представлять европейские интересы, если только открыто не утверждается обратное в самом ЕС его членами или представителями институтов. Это делается вопреки существующей в современных исследованиях тенденции концептуализировать ЕС как унитарного актора, что часто происходит в целях своего рода теоретической и эмпирической экономии, а также по политическим мотивам. В литературе обычно отмечают высокий уровень институционального и кадрового участия ЕС в посредничестве в гражданских конфликтах, особенно после создания Европейской службы внешних связей (Hill, 1993; Karreth and Tir, 2013), с момента своего официального запуска в 2010 году отвечающей за реагирование ЕС в международных кризисах. ЕС действует с достаточной автономией в сфере иностранных дел и порой даже рассматривается в качестве игрока, независимого от предпочтений государств-членов (Henökl, 2015; Henökl and Trondal, 2015; Dijkstra, 2017).
Некоторые авторы, например Ю. Бергман и А. Неманн, предлагают важное уточнение, что только те посреднические усилия могут быть классифицированы как общеевропейские, когда ЕС прямо участвовал в переговорах в качестве посредника или одного из посредников (Bergmann and Niemann, 2015, p. 959). Другие примеры европейской дипломатии, в частности усилия президента Франции Н. Саркози по деэскалации российско-грузинского конфликта в 2008 году или участие министров Ф.-В. Штайнмайера и Р. Сикорского в подготовке соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине в 2014-м, рассматриваются, скорее, в качестве случаев челночной дипломатии, а не посредничества ЕС. Такой подход представляется формально корректным, но не разделяется мною по двум причинам – поскольку значительный уровень интеграции не всегда позволяет отделить в полной мере интересы европейских стран от общеевропейских, а также вследствие того, что внешнеполитическое действие может быть реализовано на разных уровнях, но инициатива, лежащая в его основе, а также выбор методов зачастую принадлежат государствам-членам.
Учитывая, что значительная часть стран ЕС не имеет выраженных мотивов к активному участию в процессах на других континентах, ведущая роль переходит к державам, обладающим более широкими интересами и историческими связями и особым знанием региона. Например, в Африке Франция и Португалия нередко используют проекты ЕС для поддержания связей с бывшими колониями и обеспечения своим национальным компаниям привилегированного доступа к местным рынкам и ресурсам. Одновременно постколониальное наследие государств – членов ЕС не только создает возможности, но и серьезно ограничивает их в выборе политических инструментов. Историческое прошлое может оказывать влияние и другим образом. Например, Германия стремится избежать вовлечения в процесс урегулирования израильско-палестинского конфликта по причине своей исторической вины перед еврейским народом. В частности, Берлин так и не предоставил палестинской миссии статус посольства, в отличие от других европейских стран.
Недостаточная эффективность миротворческих усилий ЕС нередко связана с различием позиций государств-членов. Интересы ЕС и его членов отчасти разделяют в своих исследованиях Б. Бузан и О. Вевер, полагающие, что государства и их роли в разной степени подвергаются европеизации (Buzan and Waever, 2003, p. 373). Они признают за ЕС роль глобального актора, но отмечают, что участие Европы ощутимее в таких вопросах, как международная торговля, валютные вопросы и окружающая среда, чем в вопросах большой политики. По их мнению, EC в большей степени склонен к посредничеству в гражданских конфликтах, разворачивающихся в его «ближнем зарубежье», относя к приоритетным регионы возможного дальнейшего своего расширения. Вслед за Бузаном и Вевером важность этого аспекта подчеркивает целый ряд авторов (Bergmann and Niemann, 2015; Visoka and Doyle, 2015).
Более поздние исследования, помимо географического аспекта, обращают внимание на экономическую заинтересованность ЕС в регионе конфликта (Beardsley, 2008; Lundgren and Svensson, 2014; Reid, 2017). Экономическая политика исторически была важнейшим направлением для EC (Toje, 2008), и он вряд ли выступит посредником в гражданских конфликтах там, где имеется незначительная экономическая мотивация, поэтому многие продолжающиеся гражданские конфликты в таких местах, как Африка, скорее всего, будут по-прежнему игнорироваться объединением (Cumming, 2015, p. 485). Ряд ученых показывают, что развитые торговые связи с потенциальным посредником влияют на вероятность начала медиации как в межгосударственных, так и в гражданских конфликтах (Frazier, 2006; Regan and Aydin, 2006). EС давно рассматривает торговлю как важный инструмент внешней политики для распространения демократических норм и принципов по всему миру1, и в этом смысле можно, конечно же, говорить о некоторой компоненте коллективного интереса. Однако следует понимать, что ЕС не имеет собственных экономических интересов и, как правило, выполняет агентскую функцию, что также позволяет отказаться от фундаментального разделения интересов и практик ЕС и государств-членов.
Наконец, Э. Скалера и К. Виганд предлагают комплексный взгляд через призму ангажированности ЕС как посредника: региональной, экономической и нормативной (Scalera and Wiegand, 2018). Авторы принимают традиционный тезис о региональных предпочтениях, а также влиянии экономической вовлеченности и указывают на важность нормативного аспекта. При этом они игнорируют стратегические задачи объединения и отдельных государств-членов, взаимодействие с неевропейскими союзниками по НАТО, уровень консенсуса по тому или иному вопросу в самом ЕС и в международном сообществе, одобрение действий ЕС в мире и готовность участников конфликта или региональных держав активно противостоять усилиям европейцев. Отмеченные три категории предвзятости помогают описывать и систематизировать мотивы, но совершенно не помогают пониманию ограничений, создаваемых международной системой в целом и отдельными политическими игроками. Если региональный и экономический аспекты в общем ясны, а их трактовки не отличаются от более ранних исследований, то понятие нормативной пред- взятости нуждается в некотором уточнении. Так же как и ряд других авторов (Beardsley, 2011; Gartner and Bercovitch, 2006; Gartner, 2011), Скалера и Виганд исходят из того, что нормативная предвзятость выражается в том, что EC с большей вероятностью будет посредничать в конфликтах, которые являются особенно трудными для самостоятельного разрешения спорящими сторонами. В данном случае нормативная предвзятость EC связана с такими декларируемыми европейскими ценностями, как самоопределение, защита культурных, религиозных и этнолингвистических прав. В этом контексте исследователи полагают, что у EC есть предпочтения не обязательно в пользу одной из сторон конфликта, а скорее в отношении наиболее трудноразрешимых гражданских конфликтов. В то же время Скалера и Виганд указывают на отсутствие статистической связи между количеством жертв и участием EC в посредничестве в гражданских войнах (Scalera and Wiegand, 2018, p. 448). Это может свидетельствовать о том, что EC не решается участвовать в полномасштабных войнах с гораздо более высокими потерями.
Несмотря на некоторую обоснованность представленных выводов о мотивах миротворческой политики ЕС, их несложно оспорить «от обратного», отметив, что на европейской части постсоветского пространства имеется шесть непризнанных или частично признанных государств. Причем роль ЕС в урегулировании ситуации с каждым из них до сих пор была практически ничтожной – будем ли мы говорить о многочисленных примерах сецессии непосредственно после распада СССР, о более позднем возобновлении конфликтов и продолжающейся гражданской войне на Украине, перешедшей в горячую фазу в феврале 2022 года. Расположенные на постсоветском пространстве страны близки ЕС не только географически, они связаны экономическими и иными интересами; некоторые из них пытаются претендовать на членство в НАТО и ЕС. Поэтому имеет смысл сделать вывод, что ключевыми критериями для начала миротворческой работы ЕС является минимальное сопротивление великих держав и союзничество с США.
Минимальное участие ЕС в миротворческих процессах на постсоветском пространстве всегда было связано с опасением вступить в противоречие с российскими интересами на фоне готовности страны стать стороной конфликтного процесса, а также ввиду сложности работы в условиях масштабных вооруженных конфликтов. После 2014 года первый аспект постепенно терял свое значение, однако не утратил его полностью и после февраля 2022 года, а второй так же постепенно перестал восприниматься как существенное препятствие. В условиях, когда конфронтация России и Запада стала свершившимся фактом, эти ограничения прекратили быть таковыми и уступили место опасению непосредственного конфликта с восточным соседом. Определенную роль продолжает играть невозможность опереться на механизмы ООН в условиях, когда Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето.
Ограничениям, влияющим на отказ от миротворчества, необходимого внимания в исследованиях не уделяется. Одно из немногих исключений -исследование М. Лундрена и И. Свенссона (Lundgren and Svensson, 2020). Авторы поставили задачу объяснить, почему, несмотря на то, что готовность международных посредников возросла, доля вооруженных конфликтов, получающих посредничество, не увеличилась, а уменьшилась. Они пришли к выводу, что противоречие не может быть объяснено изменением характера конфликтов, которые стали более фрагментированными, трудноразрешимыми или интернационализированными. Вместо этого они утверждают, что конфликты, в которых участвуют субъекты, включенные в список террористов, значительно реже получают посредничество, и указывают на рост числа таких конфликтов. Выводы этих исследователей ставят под сомнение общепринятое убеждение в том, что эпоха после холодной войны характеризуется высоким уровнем посредничества, и подтверждают необходимость развития практики посредничества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Необходимость реформирования нормативной базы, определяющей миротворческую деятельность ЕС, назревала давно и была связана с несколькими задачами. Во-первых, в ЕС понимают необходимость отойти от сложившегося в миротворческой практике преобладания интересов отдельных стран в пользу более консолидированного решения общеевропейских задач. Во-вторых, важным представляется перемещение фокуса с миссий на африканском континенте на более широкое географическое участие с особым акцентом на постсоветском пространстве. В-третьих, во многих внешнеполитических документах ЕС (в том числе посвященных политике соседства и «Восточному партнерству») в последние годы прослеживается нацеленность на решение стратегических вопросов и отход от прежних целей распространения демократии и европейских ценностей. Другими словами, нормативный аспект постепенно отходит на второй план, и это становится всеобщей тенденцией. Одновременно все более важное значение приобретают экономические аспекты миротворчества.
В 2020 году ЕС провел ревизию нормативных основ миротворческой деятельности. В декабре 2020 года Европейский совет представил свои выводы о мирном посредничестве ЕС, суммировав и подытожив подходы, ранее обозначенные в комплексе документов и соглашений2. Концепция мирного посредничества ЕС3 основывается на Концепции 2009 года по укреплению потенциала ЕС в области посредничества и диалога4 и заменяет ее. Новая концепция отражает возросшее стремление ЕС к практике мирного посредничества, что правильнее трактовать как нацеленность на большее участие в международных процессах в целом. Больший чем прежде акцент делается на превентивной дипломатии и других предупреждающих действиях; это предполагает, что система раннего предупреждения ЕС должна работать более оперативно и независимо от других международных организаций, не исключая и ООН.
Как и прежде, ЕС декларирует ценностный подход к мирному посредничеству, но расширяет список задач и сторон, с которыми по своему выбору будет взаимодействовать, что почти неизбежно означает определенные ценностные компромиссы. Европейский совет подчеркивает в своих документах важность работы с посредниками, особенно с многосторонними и региональными организациями, которые могут опираться на уникальные доверительные отношения с субъектами мира и конфликтов в своих регионах, такими как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)5. Планируется выстраивать партнерские отношения и сотрудничество с организациями гражданского общества и местными общинами, включая тех, кто представляет страны и регионы, переживающие насильственные конфликты. В практической плоскости это должно способствовать углублению сотрудничества с европейскими некоммерческими организациями, созданию более разнообразных механизмов влияния и вовлечению в финансирование миротворческих операций ресурсов гражданского общества европейских стран.
Инклюзивный мирный процесс, по мнению европейских политиков, предполагает участие на международном и региональном уровнях представителей разнообразных заинтересованных сторон, а также вовлечение всех сегментов и уровней общества, от политических лидеров и до гражданского общества и местных общин, включая молодое поколение6. ЕС и его государства-члены заявляют о стремлении содействовать осуществлению и расширению прав женщин, гендерному равенству, в том числе равному доступу женщин к принятию политических решений и мирным процессам на всех уровнях. В данном случае обращает внимание то, что речь идет не столько о безопасности женщин и даже не о правах, а именно о доступе к принятию политических решений. В целом следует констатировать, что подобная работа предполагает наделение многочисленных групп определенной субъектностью (несмотря на имеющуюся оговорку об осуществлении ее в согласии с нормами международного права), что позволит ЕС брать на себя роль арбитра и создавать основы для долгосрочного влияния.
Новые подходы должны обеспечить большую гибкость во взаимодействии с заинтересованными сторонами зоны конфликта и одновременно позволят сохранить свободу в вопросе выбора участников переговоров и уравновешивать неудобных в переговорном процессе акторов другими. Кроме того, новые подходы непосредственно связаны с фрагментированием обществ и формированием лояльных ЕС групп влияния.
«Совет признает, что посредничество и миростроительство могут быть длительными, нелинейными и повторяющимися процессами и что риски, связанные с участием, не должны препятствовать участию», – говорится в резолюции Европейского совета7. Таким образом, общие критерии эффективности миротворчества не формулируются. Впрочем, отсутствие зримых результатов миротворчества вовсе не обязательно будет означать отсутствие результатов с точки зрения отдельных участников процесса. В любом миротворческом процессе всегда присутствует сумма интересов многих акторов.
Миротворчество и мирное посредничество окончательно превращаются в инструменты «мягкой силы» и распространения влияния, по причине чего Европейский совет активно ищет новые ракурсы вовлечения. Отдельно в документе подчеркивается необходимость учета в миротворческих и посреднических усилиях ЕС влияния изменения климата на мир и безопас-ность8. Первое признается мультипликатором угроз, который усугубляет конфликты, ставит под угрозу миростроительство и создает новые непредвиденные факторы нестабильности. Рабочий документ Службы внешних действий «Концепция мирного посредничества Европейского союза», опубликованный несколькими днями ранее упомянутой резолюции, указывает на то, что проблемы окружающей среды и природных ресурсов могут создавать точки входа для посредничества и диалога9.
Устранение рисков безопасности, связанных с климатом, заключается в защите уязвимых групп населения и обеспечении того, чтобы лишения, усугубляемые изменяющимся климатом, не превращались в проблемы безопасности. Прежде всего это актуально для целого ряда африканских стран, особенно если принимать во внимание проблемы ограниченного доступа к питьевой воде и деградации окружающей среды. Такой подход смещает акцент с симптомов на коренные причины незащищенности10.
Помимо этого, в ближайшие годы ЕС предполагает расставить новые акценты в вопросах сохранения культурного наследия, использования цифровых технологий, сохранения психического здоровья участников и пострадавших в ходе конфликтов и психосоциальной поддержки. Таким образом, планируется комплексное и долгосрочное вовлечение ЕС и многочисленных европейских некоммерческих организаций в социально-экономические процессы зон конфликтов. Фактически речь идет об интеграции миротворчества и культурной, правозащитной, гуманитарной и экологической политик. По мнению И. Щербака, основная цель комплексного подхода «состоит в недопущении “перетекания” последствий кризисных ситуаций в зону ЕС (гибридные угрозы, незаконная миграция, терроризм, организованная преступность и т.д.)» (Щербак, 2021, с. 159).
Ревизия подходов потребовала внесения изменений в договорную базу. В сентябре 2020 года было заключено новое соглашение между ЕС и ООН об укреплении сотрудничества и усилении коллективного реагирования в рамках миротворческих операций и управления кризисами11. Соглашение должно способствовать оперативному согласованию и большей взаимодополняемости между полевыми миссиями ЕС и ООН в области материальнотехнического обеспечения, медицинской поддержки и обеспечения безопасности. Оно также будет способствовать продвижению инициативы ООН «Действия по поддержанию мира».
Трактуя и прогнозируя действия ЕС, следует вместе с тем учитывать растущую склонность к отказу рассматривать санкцию ООН как обязательную для проведения миротворческих операций. Примеры участия отдельных стран ЕС в операциях, не санкционированных ООН, были и прежде: в 1999 году НАТО нанесло удары по югославской территории, а во вторжении в Ирак в 2003-м участвовали два члена ЕС – Великобритания и Польша. Игнорирование позиции ООН получает все большую поддержку. Тенденцию наглядно продемонстрировала развернувшаяся в сентябре 2013 года дискуссия вокруг интервенции против Сирии без мандата ООН, когда семь стран ЕС – Франция, Дания, Хорватия, Румыния, Греция, Латвия и Кипр – поддержали такую возможность. Важно, однако, понимать, что действия в обход решения ООН необязательно означают игнорирование организации и даже могут подразумевать поддержание определенных форм взаимодействия. Этому наиболее соответствует позиция Франции, которая и дальше хотела бы опираться на решения ООН в значительной мере потому, что является теперь единственной страной ЕС – постоянным членом Совета Безопасности и рассматривает этот статус, исходя из своих интересов.
До недавнего времени в европейских столицах полагали, что ЕС должен обладать возможностью действовать самостоятельно, независимо от НАТО, и миротворческие операции воспринимались как оптимальный вариант по отработке совместных действий. Во многом этому способствовали выводы, которые для себя сделали европейские политики в период администрации Д. Трампа, в результате чего дискуссия о стратегической самодостаточности обрела новую силу. Однако нет оснований полагать, что в обозримой перспективе может произойти переход от дискуссий к практическим действиям. Тем более что масштабирование вооруженного конфликта на Украине в феврале 2022 года привело к еще большей зависимости стран ЕС от США, и действовать в отрыве от заокеанского партнера европейцы оказались совершенно не готовы. И все же не следует исключать появления европейских миротворцев в Карабахе и на Украине после завершения острой фазы конфликта. Кроме того, вопрос о замене российских миротворцев на европейских в Приднестровье поднимала президент Молдовы М. Санду12, что первоначально вызвало недоумение как в самой России, так и в ОБСЕ. Очевидно, что получение мандата ООН или ОБСЕ для миротворческой работы на постсоветском пространстве является невыполнимой задачей, но присутствие вполне возможно по приглашению правительств самих постсоветских стран.
Ревизия нормативных основ миротворческой деятельности явно указывает на нацеленность ЕС на участие в крупных миротворческих операциях, для которых прежняя нормативно-договорная база представляется недостаточной. Однако до сих пор, как подчеркивает А. Никитин, «ЕС, в отличие от ООН и ОБСЕ, ставит весьма скромные политические цели перед своими операциями, оставляя упомянутым организациям вопросы политического урегулирования, проведения выборов, восстановления политической инфраструктуры мирной жизни» (Никитин, 2020, с. 153).
Считается, что недостаточная эффективность миротворческих усилий ЕС связана не только с дефицитом ресурсов, выделяемых на проведение многочисленных миротворческих операций, но также вытекает из более общей проблемы Общей политики безопасности и обороны, которая стала жертвой длительных процедур и процесса принятия решений, не позволяющих ЕС оперативно реагировать на разворачивающиеся кризисы. Однако было бы неправильно сводить эту особенность к известным недостаткам процедур. В ЕС предпочитают не выносить на публичное обсуждение тот факт, что во многих случаях миротворческая активность служит распространению влияния отдельных стран ЕС, что никак не может способствовать мотивации остальных.
В финансировании внешней политики и политики безопасности всегда отсутствовали солидарность и гибкость. В то время как некоторые государства – члены ЕС активно участвовали в миссиях и операциях, другие не могли или не считали нужным нести аналогичные высокие затраты. Решение этой проблемы стало приоритетом. Кроме того, считалось крайне важным адаптировать финансовые правила к гражданским миссиям, чтобы обеспечить их более быстрое и гибкое развертывание. Наряду с этим правила должны были гарантировать разумное финансовое управление ресурсами ЕС и минимизировать злоупотребления. Изменение логики финансирования миротворческой деятельности стало, таким образом, отдельным важным вопросом, который обсуждался с сентября 2014 года (чему очень существенно способствовали и украинские события). Решить его предполагалось главным образом за счет реформирования механизма «Афина», посредством которого происходило финансирование общих затрат на военные операции ЕС.
Во-первых, большее внимание планировалось уделить расширению диапазона обычных расходов, для чего было расширено до этого узкое определение общих издержек. Размер общих затрат, охватывавших примерно от 10 до 15 % расходов, был признан слишком маленьким. Принцип «затраты лежат там, где они падают» означал, что каждое государство – член ЕС несет ответственность за собственные расходы во время операций, за исключением общих затрат, которые финансируются через механизм «Афина». В итоге это приводило к тому, что, если в миссии Общей политики безопасности и обороны отсутствовал прямой военный компонент, в нее была вовлечена лишь малая часть государств-участников.
Во-вторых, предстояло ускорить и сделать более гибким процесс запуска программы Общей политики безопасности и обороны, что в свою очередь требовало более быстрой процедуры финансирования.
В-третьих, значительное внимание следовало уделить расширению взаимосвязи между военными и гражданскими операциями. Предполагалось, что новые правила должны решить проблемы задержки в развертывании и оснащении гражданских миссий, особенно если речь идет об использовании общих объектов, когда гражданские и военные операции осуществляются в одном и том же месте.
В целом вопросы, связанные с финансированием инициатив, всегда дают больше для понимания фактического состояния дел, чем любые декларации. С 2021 года финансирование содействия миру было возложено на Европейский фонд мира13, внебюджетную структуру в рамках программы Общей внешней политики и политики безопасности. 1 июля 2021 года новый фонд пришел на смену механизму «Афина» и Африканскому фонду мира, первый из которых финансировал военные миссии ЕС, а второй обеспечивал помощь партнерским военным операциям под африканским руководством. Европейская поддержка преодолела региональные ограничения, и еще до начала российско-украинского конфликта одним из основных получателей помощи стала Украина. Впоследствии, в марте и апреле 2022 года, ее бюджет был увеличен в три раза, до 1,5 млрд евро14, и очень вероятно, что будут приняты решения о дальнейшем увеличении финансирования. Вторым крупным получателем является Африканский союз. Помимо этого, в существенно меньших масштабах была предоставлена помощь Боснии и Герцеговине, Молдове и Грузии.
Фонд финансируется за счет взносов членов ЕС на основе валового национального дохода, и изначально предполагалось, что его бюджет составит 10,5 млрд евро в течение семилетнего периода (2021–2027 годы)15. К июню 2020 года речь шла уже о 8 млрд евро16, и только 22 марта 2021 года было объявлено, что фонд начинает работать с бюджетом около 5 млрд евро17. Это макси- мальная сумма, которую государства ЕС готовы выделить для вновь созданного инструмента. Однако изменившаяся ситуация на Украине и неудачи французской политики в Мали могут способствовать увеличению объемов фонда.
Изначально декларировалось, что Европейский фонд мира должен заниматься наращиванием военного потенциала партнеров, которые должны справляться с кризисами самостоятельно. Это предусматривало организацию обучения, поставки оборудования и создание инфраструктуры. В соответствии с Договором о Европейском союзе расходы на операции, имеющие военные последствия, не могут финансироваться из бюджета ЕС18. Внебюджетный Европейский фонд мира такие ограничения не связывают, однако считается, что во время конфликта на Украине в 2022 году произошел выход за пределы принятых правил. По словам верховного представителя ЕС Ж. Борреля, поддержка украинской армии является нарушением табу, что, тем не менее, рассматривается весьма позитивно19.
В самом начале обсуждения принципов работы будущего фонда критика со стороны депутатов Европейского парламента и правозащитных групп была довольно масштабной. Также несколько государств-членов выражали озабоченность по поводу финансирования со стороны ЕС вооруженных сил стран-партнеров. Высказывались опасения, что оружие и техника, предоставленные ЕС, в итоге попадут в руки авторитарных правительств, стремящихся подавить любую внутреннюю оппозицию.
Практически нет сомнений, что цель механизма изначально состояла в том, чтобы закрыть существующие пробелы в инструментарии ЕС и называть миротворчеством поставки вооружений конфликтующим сторонам. В период проведения российской специальной операции на Украине для координации действий Военным штабом ЕС в рамках Европейской службы внешних действий был создан информационный центр, куда Киев направляет запросы на необходимые оборудование и вооружения, которые затем сопоставляются с возможностью их удовлетворить. Далее страны ЕС осуществляют поставки индивидуально, но имеют право на возмещение части стоимости через Европейский фонд мира. К концу мая 2022 года еще не были приняты решения, проясняющие порядок возмещения. Если оно затронет даже незначительное количество вооружений, сам этот факт будет первым в истории финансированием таких поставок из совместного фонда ЕС третьей стране.
1 марта 2022 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую использовать Европейский фонд мира для выделения значительного дополнительного финансирования в целях обеспечения Украины оборонительной военной техникой, и потребовал ее немедленного выполнения20.
В более позднем проекте доклада было отмечено, что в связи с принятием «Стратегического компаса» ЕС должен извлечь уроки из деятельности Европейского фонда мира для поддержки Украины, увеличить его финансирование и использовать механизм информационного центра, который был впервые применен для Украины21.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Соглашаясь с предшествующими исследованиями, следует признать множественность факторов, определяющих готовность Европейского союза участвовать в миротворческом процессе. Однако наибольшую роль играют интересы ведущих стран ЕС, что, с одной стороны, стимулирует миротворчество, а с другой – никак не способствует мотивации других стран-членов.
Ограничения, препятствующие миротворческому участию, обычно едва ли не более значимы, чем мотивы. Часто это стремление избежать вмешательства в зону интересов других держав, неготовность вести диалог со всеми сторонами конфликта, невозможность опереться на механизмы ООН в отдельных случаях, сложности в проведении операций.
Реформирование механизмов, задействованных в миротворческих практиках ЕС, мало способствовало созданию новых мотивов или преодолению ограничений. Однако оно потенциально создает основы для утверждения разнообразных вариантов долгосрочного влияния в зонах конфликтов и роста потенциала европейской «мягкой силы».
Заметно, что в основу решения вопросов миротворчества, а если брать шире, то и политики безопасности и обороны, ложится бюрократическая логика – функционеры ЕС попытались обеспечить большую гибкость механизмов участия. Однако создаваемые Европейским фондом мира новые возможности могут быть использованы не только для расширения и большего разнообразия миротворческих практик, но и для практического самоустранения и формализации присутствия. По-прежнему остается ключевым вопрос о том, какая страна будет готова взять на себя инициативу, дополнительные расходы и ответственность.
Таким образом, следует констатировать, что институциональные реформы, призванные усилить возможности и единство ЕС в сфере миротворчества, до сих пор имели минимальный эффект, проявившийся главным образом в расширении географического охвата. Все прежние институциональные противоречия, предпочтения и ограничения, рассмотренные в данной статье, сохранили свое влияние. Неизбежным становится вывод о том, что без реформирования инструментов Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, а также формирования европейских вооруженных сил принципиальные изменения невозможны.
Список литературы Реформирование политики Европейского Союза в сфере урегулирования конфликтов в контексте кризиса на Украине
- Никитин А. И. Потенциал кризисного реагирования и военно-техническое сотрудничество стран ЕС // Современная Европа. 2020. № 5. С. 142-154. DOI: 10.15211/soveurope52020142154 EDN: ZVUUFQ
- Офицеров-Бельский Д. В. Дифференцированная интеграция: конкуренция проектов и противоречия интеграционного процесса в ЕС // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26, № 5. С. 202-216. DOI: 10.15688/jvolsu4.2021.5.16 EDN: TUWGGS
- Щербак И. Н. Стратегия кризисного реагирования Евросоюза в условиях глобальных вызовов // Современная Европа. 2021. № 4. С. 151-160. DOI: 10.15211/soveurope42021151160 EDN: OEMMRB
- Beardsley K. Agreement without peace? International mediation and time inconsistency problems // American Journal of Political Science. 2008. Vol. 52, № 4. P. 723-740. DOI: 10.1111/j.1540-5907.2008.00339.x
- Beardsley K. The mediation dilemma. Ithaca, London: Cornell University Press, 2011. 240 p.