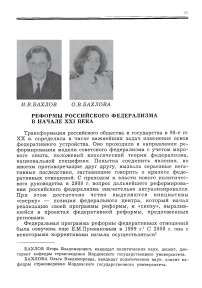Реформы российского федерализма в начале XXI века
Автор: Бахлова Ольга Владимировна, Бахлов Игорь Владимирович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Проблемы федерализма
Статья в выпуске: 3 (44), 2003 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ различных инициатив по реформированию федерализма в России. Представлены взгляды глав субъектов Российской Федерации на различные аспекты реформы федерализма.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222082
IDR: 147222082
Текст научной статьи Реформы российского федерализма в начале XXI века
Трансформация российского общества и государства в 90-е гг. XX в. определила в числе важнейших задач изменение основ федеративного устройства. Оно проходило в направлении реформирования модели советского федерализма с учетом мирового опыта, положений классической теории федерализма, национальной специфики. Попытка соединить явления, во многом противоречащие друг другу, вызвала серьезные негативные последствия, заставившие говорить о кризисе федеративных отношений. С приходом к власти нового политического руководства в 2000 г. вопрос дальнейшего реформирования российского федерализма значительно актуализировался. При этом достаточно четко выделяются инициативы «сверху» — позиция федерального центра, который начал реализацию своей программы реформы, и «снизу», выразившейся в проектах федеративной реформы, предложенных регионами.
Федеральная программа реформы федеративных отношений была озвучена еще Е.М.Примаковым в 1999 г.1 С 2000 г. она с некоторыми коррективами начала осуществляться2
БАХЛОВ Игорь Владимирович, кандидат политических наук, доцент, докторант кафедры страноведения Мордовского государственного университета.
БАХЛОВА Ольга Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры страноведения Мордовского государственного университета.
В апреле 2002 г. в своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации заявил о новой задаче в реформировании федеративных отношений, стоящей перед центром: «...настало время перенести на окружной уровень исполнение некоторых федеральных функций, приблизить их к территориям. Прежде всего — в части контрольной и кадровой работы. А именно — в сферах финансового контроля и согласования кандидатур на должности в региональных подразделениях федеральных ведомств, о количестве которых тоже надо подумать»3. Безусловно, федеральная программа реформ федеративных отношений этим не исчерпывается, так как остается достаточно нерешенных проблем (например, противоречивость статуса автономных образований и соответственно проблем так называемых матрешечных субъектов, а также легитимации института федеральной интервенции и т.п.).
Осуществление инициатив федерального центра создало новые рамочные условия для существования и деятельности региональных политических лидеров. Прежде всего им, в соответствии с федеральным проектом, во многом была предназначена пассивная роль. «Регионалы» воспринимались не инициирующими субъектами каких-либо идей, но реагирующими на предложенные и осуществляемые федеральным центром преобразования. Отметим, что в предшествующий период, напротив, именно региональные лидеры выступили инициаторами многих событий и предложений в области федеративных отношений. Это, например, инициативы по развитию интеграционных процессов на трансрегиональном уровне — «белорусская инициатива» 1999 г., по разработке проектов и концепций реформирования и развития федерализма в России («сибирского рубежа», «республики-корпорации», «глобального федерализма», «нового федерализма»)4
Утрата образа инициирующих субъектов в пространстве федерации сказалась на поведении многих региональных лидеров. Анализ высказываний «регионалов» позволяет выделить две основные позиции по важнейшим аспектам реформы.
Первая выражает согласие с необходимостью реформы, дает положительную оценку некоторым инициативам федерального центра, но одновременно выражает беспокойство по поводу будущей роли региональных лидеров и сомнение в отношении перспектив процесса реформирования (Д.Аяцков, Б.Говорин, Н.Меркушкин, Е.Строев, К.Титов, А.Тулеев и др.).
Важнейшие аспекты реформы, вызывающие пристальное внимание «регионалов» этой группы, — это проблемы силь- ной, эффективной и авторитетной вертикали государственной власти, механизма и структуры взаимодействия (диалога) федерального центра и регионов (федеральные округа), политической роли региональных лидеров (реформа Совета Федерации, Госсовета). Во многом в рассуждениях по данным вопросам региональные лидеры исходят из идеологии «сильного губернатора». Один из активных ее приверженцев — губернатор Иркутской области Б.Говорин. Он предлагает формулу «сильной власти»: сильный президент — это политическая стабильность, сильные губернаторы — эффективное управление региональными хозяйственно-экономическими комплексами, экономическая и социальная стабильность, «все вместе» — это сильная власть5.
Вместе с тем заметно, что концепция «команды президента» подчеркнутой лояльности федеральному центру, соответствуя духу реформы, идее сильной вертикали власти, не означает согласия региональных элит полностью подчиниться центру. Лишь немногие представители призывают к ограничению полномочий губернаторов (в сфере природопользования, например, губернатор Орловской области Е.Строев), указывают на желательность федерального закона об ограничении губернаторства двумя сроками (губернатор Самарской области К.Титов). Еще меньше говорится о возможности (необходимости) назначения, или «аттестации» губернаторов. Эта идея озвучивается некоторыми руководителями областей (Д.Аяцковым, М.Прусаком и др.). В частности, законопроект губернатора Ярославской области А.Лисицына об укрупнении субъектов РФ предусматривает назначение руководителя экспериментальной территории (на переходный, 3—4 года, период) Президентом РФ. М.Прусак предложил ввести президентское назначение глав администраций субъектов РФ, но с оригинальной поправкой на «конструкцию области». По его мнению, сначала главу региона должно избрать специальное собрание прошедших прямые выборы представителей от профсоюзов, ведущих партий и ассоциаций товаропроизводителей, т.е. своеобразное «вече»6
Региональные лидеры обращают внимание и на перспективы реформы (благоприятные или нежелательные). К.Титов и Д.Аяцков считают, что введение института полпредства может быть только первым шагом дальнейшего реформирования территориального устройства РФ, возможно, «укрупнения регионов». По мнению губернатора Пермской области Ю.Трут-нева, создавать институт полпредов только для контроля над'
соблюдением федерального законодательства и над деятельностью федеральных структур в регионах нецелесообразно. Он видит возможность для серьезного усиления роли полномочных представителей в «жизни регионов» за счет того, что они «возьмут на себя выстраивание межрегиональных экономических взаимоотношений», создание «отраслевых корпораций»7 Тем самым губернаторы указывают и на политические, и на экономические аспекты проводимой реформы, отмечая одновременно ее тактическую и стратегическую направленность.
Наиболее масштабное и детальное видение реформы «регионалами» Совета Федерации, очевидно, связано с ее непосредственным воздействием на них как на политических акторов общероссийского масштаба. Наблюдается сильный разброс в оценках и мнениях — от оценки «больше плюсов» до серьезной озабоченности. Губернатор Ульяновской области В.ТУТ а -манов приветствует переход к формированию Совета Федерации на постоянной основе, поскольку «будучи постоянно занятыми повседневными делами региона, два его первых руководителя вряд ли имели возможность глубоко вникать во все детали законов, утверждаемых Советом Федерации»8.
Серьезную озабоченность реформой Совета Федерации высказали руководители малых дотационных субъектов РФ. Так, по словам бывшего губернатора Эвенкийского АО А.Боковико-ва, губернаторы перестают быть «политическими и экономическими гарантами для своих регионов»9, утрачивая возможности пролоббировать их интересы на федеральном уровне. С мнением об утрате губернаторами прежнего политического влияния в целом был согласен и Глава Республики Мордовия Н.Меркушкин, которого беспокоит отстранение от непосредственного участия в принятии принципиальных, стратегических решений. Д.Аяцков, напротив, полагает, что реформа Совета Федерации предоставила дополнительные возможности «иметь в своем распоряжении политика федерального уровня»9.
У орловского губернатора Е.Строева также есть сомнения в эффективности реформирования для укрепления демократического федеративного российского государства. Во-первых, возможно ослабление Совета Федерации и отсутствие у его членов демократической легитимации. Во-вторых, вполне вероятен его демонтаж как палаты Федерального Собрания, что приведет к существенному ослаблению парламента, лишенного важнейшей составляющей его легитимации — функции парламентского представительства региональных интересов. Как полагает Е.Строев, одновременно произойдет значительное ослабление федеративных начал российской государственности, ибо «демократическая федерация с однопалатным парламентом — это нонсенс». Наиболее логичным и демократичным способом формирования Совета Федерации губернатору представляются выборы его членов населением субъектов федерации10.
Вторую позицию представляют региональные лидеры, в основном придерживающиеся концепции «договорной федерации» (прежде всего лидеры ряда национальных республик и регионов-доноров — М.Рахимов, М.Шаймиев, Э.Россель и др.). В концентрированном виде эта позиция, по мнению Президента Татарстана М.Шаймиева, выражается в том, что: «для сильной России нужны сплоченность, согласие, единое правовое или финансовое поле, но это не означает, что должны ослабевать регионы. Из слабых регионов не составить сильной России. Из центра добиться решения проблем на местах невозможно». Инициативы федерального центра рассматриваются в плоскости правового разграничения между федерацией и субъектами и с точки зрения интересов регионов. По мнению М.Шаймиева и М.Рахимова, осуществляемая реформа не может решить главные проблемы России. Оптимальным и наиболее эффективным путем управления, на взгляд Президента Башкортостана, является укрепление связей региональных властей с Кремлем и правительством, а также четкое разграничение компетенций между федеральными и местными органами власти11.
Гораздо больше внимания региональных лидеров второй группы привлекают другие аспекты реформы, а именно: приведение законодательства субъектов федерации в соответствие с федеральным, разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Стоит отметить, что инициатором обсуждения последнего вопроса был М.Шаймиев, возглавлявший в Госсовете соответствующую рабочую группу. Президент Татарстана настоятельно указывает на необходимость приведения федерального законодательства в соответствие с Конституцией РФ, особенно в той части, где оно вторгается в компетенцию субъектов РФ (в 2000 г. М.Шаймиев и М.Рахимов предлагали исключить совместное ведение из Конституции РФ путем внесения в нее поправок). Эти аспекты реформы в представлении региональных лидеров во многом увязываются с концепцией так называемой договорной феде; рации, основанной на практике двусторонних договоров меж- ду федеральным центром и субъектами федерации. Правда, высказывания президентов Башкортостана и Татарстана, скорее свидетельствуют об их направленности на концепцию «конституционно-договорной федерации». Договор рассматривается ими как универсальный правовой документ, позволяющий обеспечить учет национальных особенностей и интересов, разгрузить федеральный центр от выполнения слишком широкого объема полномочий и даже трактуется как экономический и политический документ и конституционная норма. Важнейшим принципом отношений федерального центра с регионами и в целом функционирования вертикали власти в Российской Федерации признается принцип разграничения полномочий (на каждом уровне — федеральном, региональном и муниципальном — власти должны строго следовать законодательству, не вторгаясь в компетенцию друг друга). В общем виде подобная позиция формулируется следующим образом: «Татарстан не претендует на какие-либо полномочия федерального центра, но не собирается отказываться от собственных прав»12. По мнению губернатора Свердловской области Э.Росселя, договоры с федеральным центром являются бессрочными и были заключены легитимным путем. Это мнение вполне согласуется с декларируемой губернатором концепцией «нового федерализма»13
Противоположного подхода придерживаются в основном губернаторы дотационных областей, но к числу его сторонников относятся также губернаторы Пермской, Новосибирской, Омской и Самарской (вообще не имевшей договора) областей. Суть предложений приверженцев этого подхода заключается в отмене договоров. Наиболее характерной его иллюстрацией является так называемая приволжская инициатива губернаторов Пермской, Ульяновской, Нижегородской областей и Президента Марий Эл (июль 2001 г.). Решение о добровольном расторжении договоров объяснялось «целями обеспечения верховенства Конституции РФ и федеральных законов»14
Наконец, существует и третий подход — компромиссный: договоры можно сохранить, но их необходимо привести в соответствие с действующим законодательством. Данный подход представляют Президент Кабардино-Балкарии В.Коков, Марий Эл — Л.Маркелов, мэр г.Москвы Ю.Лужков, глава Мосгордумы В.Платонов. Судя по заявлениям московских властей, они являются сторонниками не исключительной компетенции федерации или ее субъектов, а скорее, склонны ее трактовать как «разрешительную»15. Такой позиции придерживается и федеральный центр.
Инициированные федеральным центром реформы активизировали обсуждение проблем и перспектив российского федерализма. Лидеры большинства национальных республик (Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Башкортостана, Татарстана и др.) выступают за учет интересов и особенностей национальных республик и, по сути, за сохранение асимметричности Российской Федерации. Достаточно осторожная позиция озвучивается В.Коковым, предпочитающим говорить не об особых претензиях республик (он признает равенство субъектов федерации в области прав гражданина, в экономических отношениях с федеральным центром), а о правах реализации культурных и иных особенностей. М.Шаймиев более категорично заявляет о том, что сегодня интересы национальных образований никак не представлены в государственных институтах. С точки зрения М.Рахимова, «уравниловки» быть не должно, но его высказывания относятся больше к плоскости бюджетного федерализма — «не все субъекты должны перечислять одну и ту же долю налогов в федеральный бюджет. Подход в плане налогов должен быть гибкий. Кто лучше работает — у того должна оставаться большая доля налогов на развитие»16
Дальнейшее реформирование федеративных отношений часто связано и с функционально-технологическими (административно-управленческими) проблемами, и с определенными концептуальными новациями. Пожалуй, самая обсуждаемая сейчас проблема — это вопрос о возможном укрупнении субъектов Российской Федерации. Следует отметить, что она из чисто умозрительной, что было характерно для периода 90-х гг. XX в., все более отчетливо приобретает некоторые аспекты верифицируемости. Они проявляются в позиции как «федералов», так и «регионалов».
Необходимая основа для перевода проблемы в практическую плоскость была создана инициативой федерального центра по введению федеральных округов. Реализация этой идеи вполне укладывается в рамки «постмодернистской» стратегии федерального центра, предполагающей, помимо всего прочего, окончательное освобождение от наследия советского прошлого. Официально озвучиваемое обоснование идеи спикером Совета Федерации С.Мироновым, некоторыми сенаторами, председателем ЦИК А.Вешняковым, полномочными представителями Президента РФ — необходимость повышения управляемости субъектами федерации, достижение эффективности осуществления федеральных программ. Вместе с тем пока не выработано общепризнанного принципа укрупнения (это не должен быть принцип объединения субъектов федерации в границах федеральных округов).
Со стороны «федералов» последовали также заявления применительно к конкретной ситуации. Так, полпред президента в Сибирском федеральном округе Л.Драчевский поддержал идею объединения Усть-Ордынского Бурятского автономного округа с Иркутской областью; бывший полпред президента в Северо-Западном округе В.Черкесов положительно отнесся к возможности объединения Псковской, Новгородской областей и Ненецкого автономного округа с Республикой Коми (либо его включения в Архангельскую область)17
Осуществление идеи укрупнения представляет не только экономический интерес (в плане получения дополнительных материальных ресурсов влияния — полезных ископаемых и т.д.), но и определенные политические преимущества (возможность избрания в новом субъекте, например, гипотетическом Невском крае) для региональных лидеров, лишенных легитимной возможности переизбираться на прежнюю должность. Проблема «укрупнения» волнует и непосредственно заинтересованных в ее разрешении «регионалов», на настоящем этапе главным образом руководителей «матрешечных структур» (областей и входящих в них автономных округов — Пермской, Тюменской, Коми-Пермяцкого, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского и др.) и ряда русских областей, недовольных статусными привилегиями республик в составе России. Накануне избирательных кампаний 2000—2001 гг. в северных субъектах федерации распространилось несколько идей укрупнения. Наибольшую известность получил «меморандум Рокецкого», предполагающий включение Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО в состав Тюменской области, лишение их статуса субъектов федерации. Новая идея 2002 г. — создание Прибайкальского края или Байкальской области на базе Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Губернатор Ю.Неелов полагает, что объединение северных регионов станет возможным с разработкой северной (арктической) доктрины, т.е. идеологии и стратегии на федеральном уровне. С точки зрения губернатора Усть-Ордынского Бурятского округа В.Малеева, процесс объединения должен происходить в рамках глобальных изменений в государственном устройстве России, учитывать национальные интересы титульного народа и основываться на соответствующих изменениях в Конституции РФ18 #
Показательна инициатива А.Лисицына, разработавшего проект Федерального закона об эксперименте по объединению регионов Центральной России. Ярославский губернатор предложил объединить несколько (2—4) субъектов федерации по принципу «сильный плюс слабый» с учетом возможности самодостаточного (в социально-экономическом плане) развития новой территории. Необходимость объединения обосновывается обострением межбюджетных отношений между федеральным центром и регионами-донорами, а также отношений между субъектами-донорами, субъектами-«середняками» и дотационными субъектами. Губернатор Саратовской области Д.Аяцков считает, что пора вносить поправки в Конституцию РФ и изменять границы областей внутри России. На карте РФ он видит 50 субъектов — «хороших, крупных, с экономическим потенциалом»19.
Необходимо указать также и на противоположную позицию, занимаемую некоторыми региональными лидерами. Например, негативно к идее укрупнения относятся новый губернатор Тюменской области С.Собянин, глава Эвенкийского автономного округа Б.Золотарев, председатель Правительства Республики Алтай М.Лапшин. Главным тезисом, аргументирующим такую позицию, является признание ценности «консерватизма»: указание на важность сохранения стабильности, баланса отношений, возможную потерю управляемости. Альтернатива административной мере — разумная экономическая политика, следовательно, важен не общий лозунг, а конкретные дела, сотрудничество по улучшению ситуации20.
Таким образом, реакция региональных политических элит на инициативы федерального центра неоднозначна в плане оценки их характера, значения, последствий. Тем не менее в основном региональные лидеры осознают необходимость преобразований, поскольку, выражаясь словами М.Шаймиева, федеративное устройство еще далеко от совершенства. При этом федерализм как принцип территориального устройства России не подвергается сомнению. Даже лидеры национальных республик, рассуждая о суверенитете, признают его. Так, М.Шаймиев называет принцип федеративного устройства бесспорным достижением новой России, В.Коков считает федерализм стержнем российской государственности, сутью, способом и формой существования Российского государства. Федерализм рассматривается как эффективное средство решения национального вопроса и способ сохранения единства страны, многообразия народов, как стимул становления и развития гражданского общества, укрепления государства. Примечателен тот факт, что региональные лидеры затрагивают не только проблемы бюджетного федерализма, «конституционно-до- говорной» федерации, но и говорят о принципах «социального и культурного федерализма»21.
Диссонансом на этом фоне выглядят высказывания Э.Россе-ля. Критикуя политику федерального центра и оценки других региональных лидеров современной политической ситуации как постепенного возвращения от «жесткого» федерализма к традиционному (интерпретация М.Шаймиева), свердловский губернатор категорично заявляет об отсутствии федерализма в России. По его словам, «у нас никакого федерализма нет. Йи „жесткого", ни „слабого" У нас унитарное государство, с унитарным правлением». Лишь заключение соглашений между федеральным центром и регионами (договоры о разграничении редения и полномочий) Э.Россель называет «первыми ростками построения федеративных отношений», которые центр пытается ликвидировать22
Таким образом, по сравнению с периодом 90-х гг. XX в. в настоящее время региональные лидеры чаще заявляют о позитивном опыте федерализма, охотнее рассуждают о путях его совершенствования и ориентируются на его понимание как диалоговую модель взаимоотношений. Диалоговая модель мыслится основанной на взаимном интересе и взаимном уважении — «не бывает федерации, когда нет сильных субъектов, заинтересованных в этой федерации». С другой стороны, у некоторых лидеров национальных республик заметна склонность к сохранению асимметричной федерации (сохранение договоров, требование права вето для представителей национальных республик в Совете Федерации).
Федеральный центр также пытается перейти к модели взаимодействия, частично (декларативно) — соприсутствия, которая ориентирована на прагматизм действий, рационализацию стратегии и стабилизацию федеративных отношений. Остается надеяться, что инициативы «сверху» и «снизу» будут действительно реализоваться в рамках диалоговой модели.
Список литературы Реформы российского федерализма в начале XXI века
- Примаков Е.М. Семь проблем федерализма//Президент. Парламент. Правительство. 1999. № 2. С. 2-4.
- Замятина Н.Ю. Создание федеральных округов: проект 1995 г.//Регионы: экономика и социология. 2001. № 1;
- Берсенев В. Договорное право//Политбюро. 2002. № 3. С. 53.
- Послание Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию 2002 г.//Международная жизнь. 2002. № 5. С. 9.
- Голубев В. Долетит ли Лебедь до середины Енисея?//Независимая газета. 23 апр. 1998 г. С. 8;