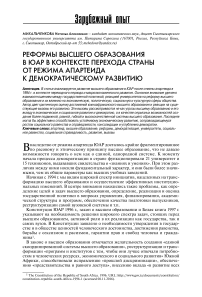Реформы высшего образования в ЮАР в контексте перехода страны от режима апартеида к демократическому развитию
Автор: Михальченкова Наталья Алексеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 6, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется развитие высшего образования в ЮАР после отмены апартеида в 1994 г. в контексте переходного периода и макроэкономического развития. Основное внимание уделено взаимоотношениям между государственной политикой, реакцией университетов на реформу высшего образования и их влиянию на экономическую, политическую, социальную и культурную сферы общества. Автор дает критическую оценку достижений южноафриканского высшего образования и реакции на существующие вызовы его развитию. Эти вызовы рассматриваются не как угрозы высшему образованию и его вкладу в экономическое и социальное развитие и демократию, а в качестве серьезных возможностей создания более подвижной, равной, гибкой и высококачественной системы высшего образования. Последняя могла бы эффективно способствовать устойчивому экономическому развитию, сопровождающемуся ростом социального равенства и справедливости, консолидации и углублению демократии.
Апартеид, высшее образование, реформы, демократизация, университеты, социальное равенство, социальная справедливость, развитие, вызовы
Короткий адрес: https://sciup.org/170168816
IDR: 170168816
Текст научной статьи Реформы высшего образования в ЮАР в контексте перехода страны от режима апартеида к демократическому развитию
В наследство от режима апартеида ЮАР досталось крайне фрагментированное по расовому и этническому принципу высшее образование, что не давало возможности говорить о нем как о единой, однородной системе. К моменту начала процесса демократизации в стране функционировали 21 университет и 15 техниконов, выдававших свидетельства о «знаниях и умениях». При этом различия между ними носили фундаментальный характер, и они были более значимыми, чем их общие параметры как высших учебных заведений.
Начиная с 1994 г. мы видим широкий спектр инициатив, нацеленных на трансформацию высшего образования и осуществление эффективных институциональных изменений. В центре внимания находились такие проблемы, как определение целей и задач высшего образования, определение, реализация и оценка государственной политики в вопросах управления, финансирования, академической структуры и программ, обеспечения качества подготовки выпускников, реструктуризации самой вузовской системы и т.п.
Конституция ЮАР 1996 г., закон о высшем образовании и Белая книга 1997 г. указывают на необходимость решения широкого спектра задач, стоящих перед высшим образованием, активной роли в их реализации как государства, так и самих вузов. В Конституции заявлено о необходимости утверждения в государстве и в обществе ценностей человеческого достоинства, достижения равенства, борьбы с сексизмом и расизмом, гарантии прав и свобод человека и гражда-нина1.
В законе о высшем образовании отмечается желательность создания «единой скоординированной системы высшего образования», реструктуризации и трансформации «программ и институтов с тем, чтобы они лучше отвечали потребностям в человеческих ресурсах, экономического и социального развития» Южной Африки, способствовали исправлению «прошлой дискриминации», обеспечению «представительства и равного доступа», внесению вклада «в развитие всех форм знания и образованности в соответствии с международными стандартами академического качества» [Waldmier 1997: 75-76]. В законе также провозглашается желательность того, чтобы вузы «обладали свободой и автономией в своих отношениях с государством в контексте публичной подотчетности и национальной потребности в высококвалифицированном труде и научном знании».
В Белой книге, в свою очередь, были определены социальные задачи, решению которых должно служить высшее образование1. Они в целом соответствовали ключевой роли высшего образования в диссеминации знаний и подготовке выпускников-профессионалов, производстве и применении научного знания посредством исследований и деятельности, вносящей вклад в социальноэкономическое развитие и демократию через обучение и воспитание, исследовательскую работу и включение в дела местного сообщества.
В качестве принципов и ценностей высшего образования были определены равенство и восстановление справедливости, качество, развитие, демократизация, академическая свобода, институциональная автономия, эффективность и результативность, подотчетность обществу. Основными инструментами реформирования высшего образования должны были стать планирование на общенациональном уровне и на уровне отдельных вузов, финансирование и гарантии качества.
Сегодня, по прошествии 20 лет, уже можно подвести итоги достаточно амбициозного плана реформ. Представляется, что к сильным сторонам южноафриканского опыта можно отнести следующие моменты.
Во-первых, в политических документах были четко зафиксированы цели и задачи, определены рамки реформы, которая в случае ее полной реализации смогла бы создать систему высшего образования, совместимую с принципами социального равенства, исправления прошлого, социальной справедливости, демократии и развития.
Во-вторых, были заложены основы новой институциональной структуры высшего образования, характеризующейся единством, скоординированностью и дифференцированностью. В нее вошли университеты, технологические университеты, многоаспектные институты, контактные и дистанционные институты и различные колледжи. Институциональная реструктуризация создала возможности для трансформирования расистской, авторитарной системы высшего образования апартеида в принципиально новую систему, в гораздо большей степени отвечающую потребностям демократии и всех ее граждан.
В-третьих, резко возросло число студентов вузов: с 473 тыс. в 1993 г. до 799 388 в 2008 г. [MacGregor 2014]. К 2013 г. их численность достигла 1 103 639 чел.2, что отвечало ожиданиям общества, стремящегося к расширению доступности высшего образования для тех социальных групп и слоев, которые подвергались дискриминации в период апартеида. Особое внимание было уделено преодолению негативного наследия в отношении черных жителей ЮАР и женщин, особенно выходцев из среды рабочего класса и сельской бедноты. Если в 1999 г. студенты-африканцы составляли 52% всех обучавшихся в вузах, то к 2008 г. их число воз- росло до 64,4%, а в 2013 г. – до 68%. Соответственно, процент женщин за период с 1999 по 2008 г. возрос с 43% до 56,3%, однако в 2013 г. снизился до 54%1.
В соответствии с целями Национального плана высшего образования произошли серьезные изменения в соотношении студентов, обучающихся в различных сферах знаний, о чем убедительно свидетельствуют данные, приведенные в табл. 1.
Таблица 1
Соотношение студентов, обучающихся в различных сферах знаний*, %
|
Область обучения |
1993 |
2008 |
2013 |
|
Социально-гуманитарные науки |
57 |
43 |
43 |
|
Бизнес и коммерция |
24 |
29 |
28 |
|
Естественные науки и техника |
19 |
28 |
29 |
* South African Higher Education in the 20th Year of Democracy: Context, Achievements and Key Challenges. 2014. HESA presentation to the Portfolio Committee on Higher Education and Training Cape Town. P. 9. URL: (accessed 08.11.2016).
В-третьих, удалось преодолеть характерную для периода апартеида международную изоляцию южноафриканских вузов. Если в 1995 г. в вузах страны обучались 14 124 студентов-иностранцев, то в 2005 г. их численность достигла 51 224 (из них из других государств Южной Африки 7 497 и 35 725 чел. соответственно), что уже составило около 7% общего числа обучающихся. В 2013 г. число обучающихся в вузах ЮАР иностранцев достигло почти 74 000 чел., однако следует отметить, что более 45% из них обучались дистанционно2.
В-четвертых, с 2004 г. начала функционировать общенациональная система оценки и контроля качества в системе высшего образования, в рамках которой предусматривается проведение аудита в вузах, аккредитация программ, оценка качества обучения и потенциала развития отдельных университетов и институтов. В результате внимание к этим вопросам резко усилилось, и качество обучения, преподавания и научных исследований стало оцениваться в контексте потребностей общественного развития и удовлетворения нужд местных и региональных сообществ.
В-пятых, была институционализирована новая система финансирования высшего образования, которая в гораздо большей степени сориентирована на поставленные перед вузами цели и качественные показатели их деятельности. Специальная программа по оказанию финансовой помощи студентам – National Student Financial Aid Scheme ( NSFAS ) – обеспечивает эффективную помощь студентам из бедных семей.
Особо следует отметить конституционное обеспечение существования в стране частного высшего образования. Частные вузы не должны при этом допускать дискриминации по расовому принципу, обязаны пройти государственную регистрацию и обеспечивать стандарты подготовки, сравнимые с государственными вузами. Частный сектор высшего образования в ЮАР пока небольшой, однако сама возможность выбора уже является важным шагом на пути демократизации высшей школы, усиления конкуренции внутри нее.
В результате проведенной трансформации ряд вузов страны предлагает академические программы, обеспечивающие высокий уровень подготовки выпускников, их готовность к вступлению в мир профессиональной деятельности не только в ЮАР, но и в других странах мира. Одновременно следует отметить высокие результаты научных исследований, проводимых южноафриканскими университетами в таких сферах знания, как биотехнологии, информационные технологии, медицина, астрономия и ядерная энергетика.
В то же время говорить об успешном завершении процесса модернизации системы высшего образования в ЮАР явно преждевременно. Остановимся на наиболее существенных, на наш взгляд, проблемах, которые требуют разрешения на современном этапе.
Прежде всего, для государственной политики в отношении высшего образования характерно наличие одновременно декларируемых целей, которые в действительности вступают в противоречие друг с другом. Отметим, что с этой проблемой в большей или меньшей степени сталкиваются все государства БРИКС. Поясним, о чем конкретно идет речь. С одной стороны, правительство и университеты стремятся добиваться социального равенства и восстановления справедливости в вопросах получения высшего образования для тех групп населения, которые подвергались в этом отношении дискриминации в период апартеида. С другой стороны, необходимым представляется обеспечение высокого качества получаемого образования. Однако в ситуации недостаточного государственного финансирования, отсутствия эффективных методов работы с плохо подготовленными студентами, преимущественно черными африканцами или выходцами из семей рабочих и сельской бедноты, перед вузами встает сложная социальнополитическая проблема выбора. Принимая заведомо слабых студентов, трудно ожидать на выходе высококвалифицированных выпускников, способных адекватно решать задачи экономического развития страны. В то же время исключительная концентрация внимания на качестве профессиональной подготовки выпускников вузов в ущерб социальной диверсификации студентов может привести к усилению расовой и гендерной сегментации рынка труда.
Другой проблемой высшего образования в ЮАР является недостаточное развитие системы послешкольного образования как таковой. Достаточно сказать, что в 2008 г. из общего числа молодых людей в возрасте 18–24 лет 874 680 были студентами вузов (799 490 учились в государственных вузах, а 75 190 – в частных), 640 166 обучались в учреждениях среднего специального образования. Однако при этом 2 781 185 чел. нигде не работали и не учились [Badat 2010: 10]. В 2013 г. из 10,2 млн молодых людей в возрасте 15–24 лет 1/3 не учились и не работали [Cassim, Oosthuizen 2014]. Совершенно очевидно, что такой высокий процент ничем не занятых молодых людей не только представляет собой образовательную проблему, но и свидетельствует о серьезном социальном кризисе в стране.
В соответствии с Национальным планом высшего образования в период 2011– 2016 гг. должна была быть достигнута контрольная цифра в 20% обучающихся в вузах от общей численности молодых людей данной возрастной группы. В 2001 г. их численность составляла лишь 15%, к 2008 г. этот показатель удалось увеличить лишь на 1%. Однако уже к 2013 г. практически удалось достичь запланированных показателей [Badat 2010: 11]. Однако говорить о том, что проблема решена, явно преждевременно, поскольку неравномерность в представительстве различных расовых и гендерных групп сохраняется. Как отмечал в 2014 г. президент ЮАР Джейкоб Зума, «только 14% африканцев и 14% цветных студентов учится в вузах в противоположность 57% и 58% белых и индийцев соответственно. Черные сту- денты и женщины представлены недостаточно в естественных и технических науках, а также в программах по бизнесу и коммерции»1. Дальнейшее увеличение числа студентов сопряжено с большими трудностями, поскольку возможности существующих государственных вузов практически исчерпаны, а частная система высшего образования, как мы уже отмечали, носит крайне ограниченный характер.
Серьезные проблемы связаны и с подготовкой кадров высшей квалификации – магистров и докторов (PhD). Число обучающихся на этих программах явно не соответствует потребностям страны. В 2003 г. на 1 млн жителей ЮАР приходилось всего 23 выпускника докторантуры (для сравнения: в Бразилии – 43, Республике Корея – 157, Австралии – почти 200). При этом средний возраст выпускников составляет 40 лет, что вызывает обоснованную обеспокоенность с точки зрения перспективы их эффективной научной и преподавательской деятельности [Badat 2010: 20].
Несмотря на то что процент чернокожих выпускников и женщин значительно вырос, преобладание белых мужчин среди получающих степень доктора сохраняется. В результате в то время как черные граждане составляют почти 91% населения ЮАР, среди преподавателей вузов их всего лишь 38%, соответственно, женщины, составляющие 51% населения, представлены 42% в профессорско-преподавательском составе2. Оценивая гендерную ситуацию в высшем образовании, необходимо при этом учитывать, что женщины главным образом занимают нижние уровни академической иерархии.
Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что только 32% университетов имеют право присуждать докторские степени. В ведущих 12 южноафриканских университетах, которые в наибольшей степени обеспечивают подготовку докторов и имеют наибольшее число научных публикаций мирового уровня, сотрудники с докторской степенью составляют от 20% до 59% всего профессорско-преподавательского состава [Badat 2010: 20].
Еще одна требующая решения проблема связана с диверсификацией и дифференциацией вузов. В 1994 г., как мы уже отмечали, в системе высшего образования ЮАР функционировали 21 государственный университет, 15 техниконов, 120 педагогических, 24 медицинских и 11 сельскохозяйственных колледжей. К 2001 г. педагогические колледжи были либо закрыты, либо вошли в состав университетов и техниконов. Как и в других странах БРИКС, в результате институциональной реструктуризации путем слияния и инкорпорации вместо 36 вузов были образованы 23: 11 университетов, 6 многоаспектных университетов (1 – дистанционный) и 6 технологических университетов3. Кроме того, появились два института, через которые стало возможным предлагать отдельные академические программы работающих университетов в тех провинциях ЮАР, где таковые отсутствуют.
Другим направлением реструктуризации было закрепление определенных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры за конкретными вузами и необходимость одобрения со стороны государственной Комиссии по высшему образованию для их изменения и дополнения.
Несмотря на определенные успехи, следует отметить, что сам процесс дифференциации остается крайне сложным по целому ряду причин, главной из которых является наследие прошлого. Преодолеть за 20 лет принципиальные раз- личия в качестве образования между привилегированными белыми университетами и решавшими исключительно прагматические задачи университетами для «черных» и «цветных» пока так и не удалось. Престиж, конкурентоспособность выпускников на рынке высококвалифицированного труда, а соответственно и финансирование (не столько из государственных источников, сколько за счет готовности оплачивать более дорогостоящее образование, спонсорства со стороны бизнеса, вложений выпускников в эндаумент-фонды) – все это остается характерной чертой бывших «белых» университетов. Именно они и представляют высшее образование ЮАР в мировых рейтингах. Перечень южноафриканских университетов, вошедших в QS World University Rankings 2015/16, приведен в табл. 2.
Таблица 2
Южноафриканские университеты, вошедшие в QS World University Rankings *
|
Место в рейтинге |
Университет |
|
171 |
университет Кейптауна |
|
302 |
университет Стелленбоша |
|
331 |
университет Витватерсранда |
|
501-550 |
университет Родса |
|
501-550 |
университет Претории |
|
551-600 |
университет Квазулу-Наталь |
|
601-650 |
университет Йоханнесбурга |
|
701+ |
университет Западного Кейпа |
* QS World University Rankings® 2015/16. URL: (accessed 08.11.2016).
Как мы видим, все они, за исключением «цветного» университета Западного Кейпа и вновь образованных путем слияния «белых» и «черных» университетов Квазулу-Наталя и Йоханнесбурга, были исторически «белыми» университетами ЮАР.
Если проблема преодоления наследия апартеида является специфической особенностью ЮАР, то вопрос о соотношении социальных и экономических целей высшего образования достаточно остро стоит во всех странах мира. В условиях усиливающейся под влиянием глобализации конкуренции тренд рассматривать высшее образование и инвестиции в университеты главным образом с точки зрения их вклада в ускорение экономического развития и подготовку студентов к рынку труда как высокопроизводительных работников экономической сферы выглядит вполне закономерным. Соответственно, на первый план выходит формирование соответствующих профессиональных компетенций по заказу государственного и частного сектора.
Действительно, высшее образование должно культивировать знания, компетенции и умения, которые позволили бы их выпускникам вносить свой вклад в экономическое развитие. Однако если в стране идет успешная подготовка специалистов в сфере естественных наук, инженерного дела и техники, это еще не означает, что автоматически идет положительное воздействие на национальную экономику. Подготовка профессионалов системой высшего образования является необходимым, но далеко не единственным условием экономического роста, инноваций и повышения конкурентоспособности на мировой арене. Степень позитивного вклада выпускников также в значительной степени зависит от институциональной экономической среды за пределами вузов, в особенности от промышленной политики, доступности инвестиционного и венчурного капитала, открытости и восприимчивости государственных организаций и частного бизнеса. Поэтому сугубо инструменталистский подход к высшему образованию, который сводит его ценность к эффективному воздействию на экономику, способствует концентрации внимания вузов исключительно на тех знаниях и квалификациях, которые необходимы для профессиональной карьеры.
Однако высшее образование имеет и внутренне присущую ему значимость, связанную с приверженностью преподавателей и студентов интеллектуальному, культурному и научному наследию человечества, необходимому для понимания современных взглядов на природу и социальный мир человека. Одновременно высшее образование имеет колоссальную социальную и политическую ценность. Как подчеркивает известный американский философ Марта Нуссбаум, образование тесно связано с идеей демократического гражданства и «культивированием человечности» благодаря развитию трех способностей: «способности к критическому мышлению; способности отвлечься от частных интересов и взглянуть на мировые проблемы с точки зрения “гражданина мира” и, наконец, способности сочувственно относиться к трудностям другого человека» [Нуссбаум 2014: 22].
Перекос в сторону исключительно инструментального подхода к высшему образованию вызывает серьезную озабоченность в ЮАР и других странах Африканского континента. Как утверждает профессор Лондонской школы экономики и политики Ткандика Мкандавире, «попытки улучшить перспективы Африки путем концентрации на естественнонаучных достижениях и получаемых от них выгод слишком часто приводили к недооценке важности тех перспектив, которые могут обеспечить гуманитарные и социальные науки». Только если последним «будет дана возможность занять подобающее им место… на вызовы развитию Африки будет дан адекватный ответ» [Mkandawire 2009: 137].
В результате относительной маргинализации искусства, социальных и гуманитарных наук во многих университетах ЮАР сократилось число студентов на филологических специальностях, особенно занимающихся изучением языков Африки, что не могло не сказаться на ситуации с мультилингвизмом.
Для того чтобы решать стоящие перед ним образовательные и социальные задачи, университет должен быть привержен «духу правды» [Graham 2005: 163] и обладать академической свободой и институциональной автономией. Однако эти свобода и автономия являются не только необходимыми условиями, но и налагают на университеты серьезные обязательства. В условиях ЮАР наследие интеллектуального колониализма и расизма угрожает академическим свободам и требует особого внимания к их преодолению в сфере интеллектуального творчества. Высшее образование несет в себе надежду на социальную справедливость, развитие и демократическое гражданство, однако эти ожидания могут и не оправдаться. В реальности мы нередко видим ситуацию, когда университеты продолжают оставаться мощными механизмами социального исключения и несправедливости, что связано как с господствующими в них самих менталитетом, структурой, культурой и практиками, так и с условиями внешней среды.
Социальное исключение выходит далеко за пределы вопросов, связанных с доступностью университетов и спецификой приема на учебу. Оно включает в себя наличие или отсутствие возможностей интеллектуального, социального и гражданского развития и достижения успеха. Это, в свою очередь, определяется в т.ч. и организационной и академической культурами, учебными программами и практикой преподавания. В конечном счете, речь идет о самой идее университета, концепции его целей и роли в обществе и государстве.
Однако, как и во многих других странах, одной из ключевых проблем ЮАР является недостаточность государственного финансирования высшего образования. При этом здесь финансовая проблема порождает острейшую политическую конфронтацию в обществе.
Существующая в настоящее время модель финансирования вузов может быть охарактеризована следующим образом: низкий уровень государственных инвестиций, низкий уровень охвата молодых людей высшим образованием и высокий уровень оплаты обучения. Именно это стало причиной кризиса, начавшегося в 2015 г. и проходящего под лозунгом «Оплата должна снизиться ( #FeesMustFall )», кризиса, который, по мнению Нико Клоэте, является симптомом гораздо более серьезных проблем [Cloete 2016].
По данным экономиста Йохана Фури [Cloete 2016], только наиболее обеспеченные 4% населения ЮАР могут позволить себе оплату высшего образования без какой-либо финансовой помощи со стороны или банковских кредитов. Государственное финансирование высшей школы в период с 2000 по 2013 г. сократилось с 49% до 40% (а в ряде случаев – и до 30%). Чтобы компенсировать потери вузов, оплата обучения для студентов и их семей только с 2010 по 2014 г. выросла на 42% (9% в год по сравнению с уровнем годовой инфляции в 5–6%). В дополнение к этому специальная программа по оказанию финансовой помощи студентам в это же период недополучила 3,7 млрд рандов (244 млн долл. США). Это и спровоцировало массовые выступления студентов, которые носили внепартийный характер, не имели формальных лидеров, а основывались на политической мобилизации посредством социальных сетей, что является характерным для наиболее ярких современных социальных движений.
На первый взгляд, введение бесплатного высшего образования может создать благоприятные условия для поступления в вузы молодых людей из семей с низкими доходами. Однако, как показывает опыт других стран, в наибольшем выигрыше оказываются представители среднего класса, поскольку, аккумулируя гораздо в большей степени в своих семьях культурный капитал, определяющий значительно более высокий уровень знаний и степень подготовленности к обучению в вузах, именно они главным образом и становятся студентами, а не выходцы из семей городской и сельской бедноты. В то же время выступающие за бесплатное высшее образование рассматривают его в качестве наиболее важного социального лифта в обществе.
В результате с конца 2015 г. правительство ЮАР оказалось под беспрецедентным со времен апартеида давлением со стороны студенческого движения, требующего отменить плату за обучение в вузах. Столкновения в южноафриканских университетах начались с нанесения ущерба статуям и другим произведениям искусства, за этим последовала конфронтация с силами правопорядка, поджоги зданий и жесткие столкновения между отдельными группами студентов. Следует отметить, что продолжающийся конфликт связан не только с платой за обучение, но и с недостатком общежитий для студентов, низкой оплатой труда обслуживающего персонала вузов и языком преподавания.
Напомним, что еще в 1996 г. Национальная комиссия по трансформации высшего образования (NCHE) сформулировала 3 основополагающих принципа: равенство, демократия, развитие. Эти же принципы вновь заявлены в том же порядке и в докладе NCHE 2016 г. Однако в настоящее время после 20 лет дискуссий и экспериментов уже становится очевидным, что без развития невозможно реализовать на практике первые два принципа. Требования бесплатного высшего образования базируются на идеях равенства и демократии, однако вступают в прямое противоречие с требованиями развития страны [Cloete 2016].
Еще в 1986 г. известные политологи Г. О’Доннелл и Ф. Шмиттер подчеркивали, что переходный период от авторитаризма к демократии будет характеризоваться «многочисленными сюрпризами и сложными дилеммами», «элементами случайности и непредсказуемости, ключевыми решениями, принимаемыми в спешке» акторами, «которые столкнутся с неразрешимыми этическими дилеммами и идеологической путаницей, драматическими решающими поворотами, которые будут достигать и проходить, не понимая их будущей значимости» [O’Donnel, Schmitter 1986].
Представляется, что пример трансформации системы высшего образования в ЮАР со всеми его достижениями и нерешенными проблемами убедительно свидетельствует о справедливости данного предсказания.
Список литературы Реформы высшего образования в ЮАР в контексте перехода страны от режима апартеида к демократическому развитию
- Нуссбаум М. 2014. Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки (пер. с англ. М. Бендет; под науч. ред. А. Смирнова). М.: ИД ВШЭ. 192 с
- Badat S. 2010. The Challenges of Transformation in Higher Education and Training Institutions in South Africa. Paper Commissioned by the Development Bank of Southern Africa. 56 p. URL: http://www.dbsa.org/EN/About-Us/Publications/Documents/The%20challenges%20of%20transformation%20in%20higher%20education%20and%20training%20institutions%20in%20South%20Africa%20by%20Saleem%20Badat.pdf (accessed 08.11.2016)
- Cassim A., Oosthuizen M. 2014. The State of Youth Unemployment in South Africa. -Africa in Focus. URL: https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2014/08/15/the-state-of-youth-unemployment-in-south-africa/(accessed 08.11.2016)
- Cloete N. 2016. University student fees -A trilemma of trade-offs. -GLOBAL. Issue No. 413. URL: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20160510095751190 (accessed 30.04.2017)
- Graham G. 2005. The Institution of Intellectual Values: Realism and Idealism in Higher Education. Exeter: Imprint Academic. 289 p
- MacGregor K. 2014. The massification of higher education in South Africa. -University World News. Issue No. 325. URL: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2014062015083621 (accessed 08.11.2016)
- Mkandawire T. 2009. From the National Question to the Social Question. -Transformation: Critical Perspectives on South Africa. No. 69. Р. 130-160
- O’Donnel G., Schmitter Ph. 1986. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore; London: Johns Hopkins University Press. 96 р
- Waldmier P. 1997. Anatomy of a Miracle: The End of Apartheid and the Birth of the New South Africa. London: Viking. 303 p