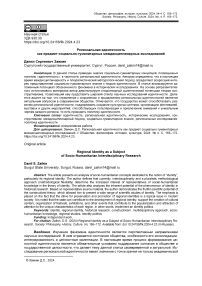Региональная идентичность как предмет социально-гуманитарных междисциплинарных исследований
Автор: Заикин Д.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье приведен анализ социально-гуманитарных концепций, посвященных понятию «идентичность», в частности, региональной идентичности. Автором определено, что в настоящее время междисциплинарность и плюралистический методологический подход определяют возросший интерес представителей социально-гуманитарного знания к теории идентичности. В статье анализируется заложенный потенциал обозначенного феномена в исторических исследованиях. На основе репрезентативного источникового материала автор демонстрирует плодотворный сциентический потенциал теории конструктивизма, позволивший ему представить широкий спектр научных исследований идентичности. Делается акцент на том, что стремление к сохранению и продвижению региональных идентичностей является актуальным вопросом в современном обществе. Отмечается, что государство может способствовать развитию региональной идентичности, поддерживать создание культурных центров, организацию фестивалей, выставок и других мероприятий, способствующих популяризации и привлечению внимания к уникальным чертам каждого региона, то есть проводить политику идентичности.
Идентичность, региональная идентичность, исторические исследования, конструктивизм, междисциплинарный подход, социально-гуманитарное знание, региональные исследования, политика идентичности
Короткий адрес: https://sciup.org/149145365
IDR: 149145365 | УДК: 930:30 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.23
Текст научной статьи Региональная идентичность как предмет социально-гуманитарных междисциплинарных исследований
науки, но и реального социально-экономического и общественно-политического развития территории. Признание и сохранение уникальности культуры и идентичности конкретного региона позволяет формировать его имидж и привлекать туристов, инвестиции, развивать местный бизнес.
Особенности региональной идентичности могут выражаться в различных аспектах, таких как язык, обычаи и традиции, религиозные убеждения, пищевые предпочтения, музыка, народные ремесла, архитектура и во многих других проявлениях жизнедеятельности людей. Каждый регион имеет свою уникальную идентичность, которая формируется под влиянием истории, политических факторов, географического расположения, взаимодействия этнических групп. Изучение региональной идентичности позволяет не только понять основные черты и особенности определенной территории, но и осознать силу местных сообществ, их способность сохранять и передавать культурные ценности и традиции. Благодаря этому ученые и политики могут разрабатывать меры поддержки и сохранения национальной идентичности, а также укреплять межрегиональные связи и взаимодействие различных этносов.
В настоящее время междисциплинарный подход становится доминирующим исследовательским инструментом, позволяющим наиболее широко и глубоко погрузиться в тему исследования, ответить на поставленные задачи и доказать разработанную гипотезу, благодаря специфической оптике теории конструктивизма. Аккумулируя энергию методов различных гуманитарных наук, интерпретируя их в формате научных принципов исторического исследования, она позволяет получить эффективные концептуальные решения проблемы региональной идентичности. Она соединяет в себе вопросы социологии, географии, психологии, являясь результатом их взаимодействия, что сказывается на трудностях исследования региональной идентичности. Связано это со сложным определением территориальных рамок – не всегда административная единица совпадает с границами самоидентификации групп индивидов. Каждая из наук стремится раскрыть и проанализировать определенную сторону региональной идентичности. Базовые исследования идентичности мы наблюдаем у ученых-психологов, вслед за которыми социологи взяли на вооружение и расширили предмет исследования с одного человека до больших групп. Политология усматривает в идентичности свои базовые процессы, включающие борьбу за власть, агрегирование интересов, политическое поведение масс. Филология рассматривает символические основания и образность при формировании идентичности. Для исторической науки идентичность представляет собой интерес как модель развития, поскольку репрезентирует социальные, культурные аспекты становления регионов.
Конструктивизм. Региональная идентичность как конструкт . Феномен конструктивизма в современной философии и социально-гуманитарных науках рассматривается как подход, в рамках которого утверждается, что знание и социальная реальность конструируются через взаимодействие между людьми и их окружением. В философии конструктивизм часто связывают с идеями Иммануила Канта, который утверждал, что мы не можем познать мир таким, какой он есть на самом деле, а только через наши собственные категории и понятия (Кант, 2007). Это означает, что наше восприятие мира зависит от наших когнитивных способностей и опыта.
В социально-гуманитарных науках конструктивизм часто используется для объяснения того, как формируются социальные нормы, ценности и идентичности. Его сторонники утверждают, что эти элементы социальной реальности являются не объективными фактами, а, скорее, продуктами взаимодействия между людьми.
В философии конструктивизм развивался в различных направлениях и имел множество теоретиков. Например, в рамках социального конструктивизма важную роль играли такие философы, как Питер Бергер и Томас Лукман (Бергер, Лукман, 1995). В развитие эпистемологии конструктивизма значительный вклад внесли такие ученые, как Имре Лакатос (Лакатос, 1978) и Пол Фейерабенд (Фейерабенд, 2007). В области психологии конструктивизма важную роль играли такие ученые, как Жан Пиаже (Piaget, 1954) и Лев Выготский (Выготский, 2004).
Один из наиболее известных конструктивистов в социально-гуманитарных науках – Питер Бергер. Он утверждал, что социальная реальность формируется через процессы общественного взаимодействия и коммуникации. Мыслитель также подчеркивал роль языка в создании социальной реальности (Бергер, Лукман, 1995).
В целом, конструктивизм в современной философии и социально-гуманитарных науках представляет собой подход, который подчеркивает роль субъективности и взаимодействия в формировании знания и социальной реальности.
В своей книге «Воображаемые сообщества» Бенедикт Андерсон объяснил саму возможность для ассимиляции народов (Андерсон, 2001). Он полагал, что этническое самосознание не зависит от генов, «родства по крови», поскольку на идентичность человека сильное влияние оказывает воспитание и образование. По Б. Андерсону, нация – это воображаемое, то есть созданное благодаря мыслям людей, сообщество, участники которого в своем подсознании удерживают ментальный образ своего сходства. Воображаемое сообщество отличается от реального, потому что оно не может быть основанным на повседневном общении лицом к лицу его участников. Нации же являются воображаемыми, так как члены даже самой малочисленной из них просто физически никогда не смогут узнать большинство своих собратьев по данному сообществу, встретиться с ними, тогда как в умах каждого из них живет образ их общности (Андерсон, 2001).
На практике идеи конструктивизма выражаются в том, что идентичность сплачивает сообщества, вследствие чего его члены обладают чувством единства с тем, кого не знают лично «в лицо», имея при этом воображаемый образ общности. Сторонники конструктивистского подхода определяют идентичность как динамическую характеристику, поскольку она формируется в процессе коммуницирования и взаимодействия индивидов в социальном пространстве, которое может меняться. Л.А. Фадеева отмечает, что конструктивизм «является доминирующим» подходом в исследовании идентичности (Фадеева, 2016: 166).
Данный термин не имеет четкого определения. Это мировоззрение, которое отрицает наивный реализм. В рамках конструктивизма говорят не о правильности или неправильности модели, а о ее соответствии или несоответствии научной картине мира. Повествование историка о прошлом может быть конструкцией, мифом или знанием, но последнее преобладает среди профессионалов. Историкам доступны только оставленные следы прошлого, но у них есть профессиональные способы отсеивания вымысла и предвзятых оценок, а также восстановления последовательности событий. Поэтому история способна дать достаточно обдуманное и адекватное представление о прошлом.
В 1990-х гг. в исследованиях данной направленности произошел так называемый «лингвистический поворот», что означало обращение представителей исторической науки к теории лингвистики и филологии, связанной с основами человеческого восприятия и понимания. Это привело к изменению фокуса и методов исследования. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на поиске «истинных» фактов и событий, историки начали изучать, как эти факты и события были сформированы и интерпретированы через язык и тексты. Такая деятельность привела к более глубокому пониманию роли последних в формировании исторического знания и позволила ученым более критически относиться к источникам и методам исследования. «Лингвистический поворот» в исторических научных изысканиях в 1990-х гг. имел большое значение для изучения региональной идентичности. Этот подход позволил историкам оценить, как язык и тексты формируют и интерпретируют региональную идентичность, как они используются для описания и представления региона и его жителей в настоящем и как это было в прошлом.
Региональная идентичность в рамках философии культуры имеет две основных интерпретации: как способ самоопределения общества в рамках актуальной культуры, включающий в себя ценностное, когнитивное, регулятивное и эмоциональное отношение к определенной территории, и как идентичность региона, существующая в форме коллективного дискурса и совпадающая с понятием «имидж региона». Обе формулировки учитывают, что процессы формирования и функционирования «региональной самости» зависят от наличия уникальных способов выражения местных и территориальных особенностей, определяющих региональную принадлежность субъекта на индивидуальном уровне. Стоит также отметить, что при совпадении идентичности с «имиджем региона» во второй трактовке исследуемого понятия коллективный дискурс представлен Другому, для раскрытия определения которого мы обратимся ко взглядам на феномен идентичности исследователя Ю.А. Киричек (Киричек, 2013). По ее мнению, истоки определения данной категории лежат в традиционной для европейской философии проблеме Другого. Это понятие было введено в философию в XX в. с целью фиксирования встречи Я с тождественной ему сущностью (Элиаде, 1987: 202). Процесс развития индивида соразмерно эволюции народов неотделим от присущих ему конфликтов. На их протяжении Другой сначала отрицается, затем снимается и, наконец, сохраняется. Итогом всего этого действа становится приобретение сознанием максимально универсального видения реальности. Крайне любопытным представляется тот факт, что на протяжении XVIII–XIX вв. Другой традиционно понимался как Чужой, ведь он находился на удалении от познающего субъекта, а коммуникация с ним была весьма слабая. Только со значительной интенсификацией межкультурного общения такое дихотомическое мышление начало преодолеваться и стала развиваться интерсубъективность. Другой при этом стал основным концептом нынешнего принципа самоосознания в Европе. Кроме того, развитие в традиции европейских дискурсов Другого, равно как и аутентичности с инаковостью, неразрывно связано с возникновением термина «идентичность» (Киричек, 2013: 43).
Первое постсоветское десятилетие, 1990-е гг., ознаменовалось новым этапом во взаимоотношениях центра и регионов России. Политические условия (центробежность), новый федеративный договор определили особенности и специфику процессов, в которых происходило формирование региональной идентичности в 1990-х гг. Усиление конкуренции между территориями привело к реализации политике построения региональной идентичности в субъектах Российской Федерации, направленной на поиск исключительных и уникальных обстоятельств, которые отличали бы данный регион от других и выгодно представляли территорию во внешнем пространстве. Определялись новые связи и аспекты, ядром которых являются жители региона и их самоидентификация, эмоциональная «привязка», региональная солидарность с территорией проживания. Создание территориального имиджа и конструирование идентичности региона являются в принципе схожими процессами, так как подразумевают создание определенных социальных институтов, символов и территориальных границ. В основе имиджа региона, равно как и идентичности, находится идея отделения одной территории от другой. Вместе с тем для укрепления идентичности региона на первый план выходит его культурная самобытность, экономическая «автономия», утверждение которой зачастую опирается на динамичное развитие субъектов федерации. Посредством процесса интерпретации своеобразия в региональном ракурсе идентичность закрепляется в виде института в конкретном виде сообщества. При этом она рассматривается в качестве конструкта, а приоритетное внимание уделяется анализу определяющих ее и обозначающих территориальные различия практик дискурса (Paasi, 2003). Итогом этого является определение идентичности региона как имеющего географическую привязку коллективно создаваемого дискурса.
Идентичность региона возможно структурировать. Тогда ее компонентами выступают различные по своей форме системы дискурсов. Например, вполне становится подвластной анализу идентичность региона, с одной стороны, в виде совокупности философского, мифологического, научного, политического и художественного дискурсов о регионе, а с другой – в виде системы представлений, которая проявляется на уровнях «официальном» и «низовом».
Социально-гуманитарные науки об идентичности . Проникновение теории идентичности в социальные и политические науки произошло в начале 1960-х гг. из психоанализа. Соответственно, в то же время в западном дискурсе предельно актуализировалась проблематика инаковости. В силу этих событий произошли качественные изменения в научном образе социума в англо-саксонской традиции. Представлявшийся ранее как одномерная статичная система, он стал восприниматься в качестве динамичной дифференцированной структуры, в состав которой входят многие и многие элементы (Хукc, 2001). С учетом национальных, этнических и прочих исследований «друговость/инаковость» представлялась в европейской гуманитарной мысли в качестве несхожести общностей/индивидов с учетом таких факторов, как ментальные, культурные, ценностные особенности вкупе с нацеленностью на легитимацию через включение в гражданские коммуникации (Горшков, 2011: 169).
Эти коренные изменения, конечно же, обнаружились и при обсуждении спектра вопросов, связанных с идентичностью в исторической науке. Так, в 1990-е гг. среди факторов, которые оказали существенное влияние на понимание феномена идентичности стоит выделить глобализационные процессы, появление организаций межгосударственного и надгосударственного характера, окончание холодной войны. Очень серьезное влияние, кроме того, оказала и замена теории классовой борьбы на концепцию социального партнерства, что, безусловно, стало толчком к прекращению представления Другого как врага или «чужого» (Киричек, 2013: 50). Круг объектов для исторической самоидентификации пополнился общегражданской самооценкой людей. Возникли вопросы анализа ролей политических партий и их лидеров в становлении идентичности (Киричек, 2013: 51).
При этом первые теоретические разработки по данной теме появились на заре развития науки. В 1877 г. британский социолог В. Александр в своей книге «Заметки и зарисовки, иллюстрирующие сельскую жизнь Севера в XVIII веке» впервые ввел в научный оборот термин «персональная идентичность», под которой он понимал некоторый набор характерных черт, подчеркивающих отличия конкретного индивида от других (Alexander, 1877).
В качестве отдельной философской категории понятие «идентичность» сформировалось в Новое время (XVII–XVIII вв.). С этого момента оно стало определять личность человека благодаря постоянным критериям индивидуального сознания. Так, Д. Локк в своем труде «Опыт о человеческом разумении» задался вопросом систематизации тождества субстанции, прежде всего, ее материала, животного мира, то есть организма и человека, проблема соотношения которых непосредственным образом связана с возможностью отождествления с самим собой (Локк, 2022).
Для всех философов Нового времени характерным было рассмотрение понятия идентичности без учета исторических и культурных составляющих, только лишь в контексте личностных внутренних переживаний. Трактовку термина в этом значении связывают с исследованиями известных психологов Э. Берна (Берн, 2000), З. Фрейда (Фрейд, 2011), Э. Эриксона (Эриксон, 2006). Последний в своей работе «Идентичность: юность и кризис» пишет, что данный феномен «обозначает твердо усвоенный и личностно принимаемый образ себя во всем богатстве отношений личности к окружающему миру, чувство адекватности и стабильного владения личностью собственным “я” независимо от изменений “я” и ситуации; способность личности к полноценному решению задач, возникающих перед ней на каждом этапе ее развития. Идентичность – это прежде всего показатель зрелой (взрослой) личности, истоки и тайны организации которой скрыты, однако, на предшествующих стадиях онтогенеза» (Эриксон, 2006).
Исследования английских авторов Р. Робертсона и Х. Хондкера демонстрируют комплексную взаимосвязь процессов глобализации и локализации в сферах экономики, политики и культуры. Согласно ученым, оборотной стороной усиливающихся глобальных процессов становится их дифференциация, имеющая многообразные проявления на локальном уровне (Robertson, Knondker, 1999).
Труды Т. Крессуэлла (Cresswell, 2006), Дж. Бертона (Burton, 1996), Дж. Ротмана (Rothman, Alberstein, 2013), Э. Нойманна (Нойманн, 1998), Э. Дюркгейма (Дюркгейм, 1995) заслуживают внимания в контексте рассмотрения феномена «конфликта идентичностей».
Особенно стоит отметить работы отечественных филологов московско-тартусской школы М.М. Бахтина (Бахтин, 1997) и Ю.М. Лотмана (Лотман, 1974). Выдающиеся советские ученые подошли к исследованию проблемы формирования идентичности посредством рассмотрения диалогизма культуры. Они признавали единство исследователя и мира, им познаваемого.
Велик интерес к изучению идентичности и среди зарубежных политологов. Так, Э. Хоб-сбаум в своей работе «Изобретение традиций» проводит параллели «конструирования идентичности» с «изобретением традиций» (Хобсбаум, 2000). На примере генезиса швейцарской нации и государства, в котором отдельным элементам народной культуры был придан современный вид, британский ученый рассматривает связь новых традиций с прошлыми, пусть большая их часть и оказывается фикцией. Такие вновь изобретенные традиции, по Э. Хобсбауму, признаются важнейшими индикаторами происходящих изменений в государствах (Хобсбаум, 2000).
История такого явления, как региональная идентичность, уходит корнями в далекое прошлое и изучается в контексте социально-гуманитарных знаний. Модернисты полагают, что она является неотъемлемой частью самосознания каждого члена регионального коллектива, поскольку ее формирование и развитие обусловлено воздействием внешних условий. Постмодернисты рассматривают региональную идентичность как процесс непрерывного самоопределения и обособления, который стимулируют различные социальные группы. В настоящее время глобальные трансформации практически во всех сферах человеческой жизни: культурной, социальной, политической, экономической и других, связаны с процессами глокализации и глобализации. При исследовании региональной идентичности ключевым аспектом является изучение связи индивида с территорией его проживания, что включает в себя ментальную и пространственную связь. Для экономики важно изучать культурные, исторические, социально-демографические и географические показатели региона с целью повышения имиджа и бренда территории на государственном, международном и мировом уровнях. Выделяя основные черты этого понятия, стоит обратить внимание на тесную связь с географией как механизмом влияния на сознание жителей, их мировоззрение, а также на исторический аспект, определяющий идею региона через образ уникального, самобытного места, который имеет эмоциональную коннотацию (Данилова, 2021).
С точки зрения социологии, региональная идентичность – это объективное состояние, основанное на рефлексивном чувстве личной идентичности и целостности, непрерывности во времени и пространстве (Еремина, 2011).
Результаты реализации политики идентичности напрямую зависят от правильной оценки и изучения психологических особенностей жителей, эффективных способов, в том числе педагогических, воздействия на личность. Поскольку, как показывают социологические исследования, самовосприятие и самоощущение разнятся в зависимости от возраста. Поэтому молодежь и старшие школьники – одни из главных субъектов политики идентичности.
Идентичность как предмет исследований исторической науки . В контексте данной статьи отмечаем, что конструктивистский подход в отношении высказываний о прошлом очень популярен среди профессиональных историков и не только. В течение веков идентичность, понимаемая как принадлежность индивида к какой-либо группе, определялась аскриптивными по отношению к нему параметрами. В XX в. в связи с многофакторным усложнением общества, усилился и интерес ученых-историков к исследуемой теме. Рассмотрение идентичности с их точки имеет под собой базу в анализе процессов изменения групповой и индивидуальной разновидности данного явления и установления деятельных участников данных трансформационных процессов.
Через исследования С.М. Соловьева1, А.Д. Градовского (Градовский, 1868) «красной нитью» проходила идея о специфической российской черте – неукорененности, которая сформировалась из-за однообразия природно-климатических условий Русской равнины, осуществления строительства православных храмов и гражданских домов из дерева. К этому А.Д. Градовский добавлял социально-политические факторы: влияние монгольского ига, постоянную борьбу и противодействие сепаратизму в целях централизации государства и др. (Градовский, 1868).
Вторая идейная линия в отечественных взглядах на проблему идентичности связана с именами Н.И. Костомарова (Костомаров, 1995) и Л.П. Щапова (Щапов, 2001). В соответствии с ней в России весьма серьезны культурные территориальные различия. При этом характеру русских свойственен свободный дух конфедерации и веча. В силу данных обстоятельств население, проживавшее на присоединяемых к Московскому государству землях, на протяжении столетий не могло забыть о своей былой независимости, что крайне ярко проявилось в период Смутного времени, когда спасителями Отечества стали те области, которые сохранили великорусскую аутентичность: Нижний Новгород, Вологда, Ярославль1. При этом в отечественной исторической науке присутствует и точка зрения, которую вполне можно назвать промежуточной по отношению к вышеприведенным. Ее адепты допускают наличие укорененности наряду со сравнительно небольшими региональными контрастами при отсутствии сепаратизма2.
В настоящее время термин «идентичность» выступает универсальным понятием, содержащим в себе описание некоторой совокупности количественных и качественных характеристик, которые репрезентируют особенности конкретного географического либо культурного индивида (например, территории, общности или же группы). З.А. Жаде считает, что региональная идентичность является важной социальной функцией, которая способствует экономическому развитию общества и является частью системы управления им (Жаде, 2006). Она зависит от влияния культуры, региональных различий и уровня социально-экономического развития территории.
Понятие идентичности в советской науке понималось синонимично терминам «специфичность», «самобытность» и «самосознание» и на этническом, и на региональном уровнях. Таким образом, идентичность, в том числе и региональная, позволяла в некотором роде соизмерять традицию и глобализацию, традицию и модернизацию.
Ю.А. Киричек в своей концепции изучения региональной идентичности особое внимание обратила на фактор места, поскольку человек идентифицирует себя с определенной территорией своего проживания. Согласно позиции исследователя, региональная идентичность является аспектом идентичности социальной, соединяющим переживания и представления личности о своей взаимосвязи с общностью того региона, где она проживает, сочетая в себе характеристики и пространственного бытия, и внутреннего пространства развития человека (Киричек, 2013: 44).
Специфика региональной идентичности учитывает следующие особенности и/или инструменты: специфический исторический контекст, прошлое региона, его экономические особенности, традиции, мифы, изобразительное искусство, литературу, музыку. Любой регион старается создать свою собственную идентичность, пытаясь посредством разнообразных символов сделать свой неповторимый образ, существенно отличающий его от других. Каждый из регионов в этом деле делает упор на привычные, проверенные временем бренды, которые детерминированы историческими, географическими и иными региональными особенностями3.
Заключение . В социально-гуманитарных науках широкое распространение получили определения идентичности, данные учеными из различных направлений: философии, политологии, социологии, филологии, психоанализа и, конечно же, истории. Рассмотрение идентичности с точки зрения последней имеет под собой базу в виде анализа процессов трансформации группового и индивидуального самосознания и выявления деятельных участников данных изменений. В XX в. появилось множество новых субъектов самоидентификации, претендующих на создание академических версий собственного прошлого. Профессиональной исторической науке в данных обстоятельствах представляется крайне важным проведение истинного анализа имевших место тенденций общественного развития. Разнообразные аспекты идентичности регионального, национального, локального, транснационального уровней постоянно остаются в поле зрения ученых.
Список литературы Региональная идентичность как предмет социально-гуманитарных междисциплинарных исследований
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышление об истоках и распространении национализма. М., 2001. 288 с.
- Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках: Опыт философского анализа // Русская словесность: от теории словесности к структуре текста. М., 1997. С. 227–244.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 336 с.
- Берн Э. Лидер и группа: О структуре и динамике организаций и групп. Екатеринбург, 2000. 317 с.
- Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М., 2004. 512 с.
- Горшков А.С. «Инаковость» и гендерные вариации множественной идентичности // Идентичность как предмет политического анализа. М., 2011. С. 169–173.
- Градовский А.Д. История местного управления в России: в 9 т. СПб., 1868. Т. 2. 492 с.
- Данилова А.Н. Формирование региональной идентичности личности средствами школьного географического образования // Добродеевские чтения – 2020. М., 2021. С. 47–53.
- Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 349 с.
- Еремина Е.В. Региональная идентичность в контексте социологического анализа // Регионология. 2011. № 3 (76). С. 216–222.
- Жаде З.А. Региональная идентичность с точки зрения геополитики // Вестник Адыгейского государственного университета. 2006. № 4. С. 95–100.
- Кант И. Метафизика нравов. М., 2007. 399 с.
- Киричек Ю.А. Дискурс «Другого»: от философских традиций к теории идентичности // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2013. Т. 13, № 4. С. 42–53.
- Костомаров Н.И. Старинные земские соборы // Земские соборы. М., 1995. С. 5–64.
- Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 203–269.
- Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. М., 2022. 864 с.
- Лотман Ю.М. Динамическая модель семиотической системы. М., 1974. 23 с.
- Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. М., 1998. 462 с.
- Фадеева Л.А. Идентичность как категория политической науки: исследовательское поле и когнитивный потенциал // Политическая наука. 2016. № 2. С. 164–180.
- Фейерабенд П. Против метода: очерк анархистской теории познания. М., 2007. 413 с.
- Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого Я. СПб., 2011. 192 с.
- Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 47–62.
- Хукc Б. Революция ценностей: обещание мультикультурных перемен // Контексты современности. Казань, 2001. С. 115–117.
- Щапов А.П. Великорусские области и смутное время (1600–1613) // Избранное. Иркутск, 2001. С. 67–164.
- Элиаде М. Космос и история: избранные работы. М., 1987. 311 с.
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 2006. 341 с.
- Alexander W. Notes and Sketches llustrative of Northern Rural Life in the Eighteenth Century. Edinburgh, 1877. 243 р.
- Burton J. Conflict Revolution. Toronto, 1996. 100 р.
- Cresswell Т. On The Move. Mobility in the Modem Western World. N. Y., 2006. 340 р. https://doi.org/10.4324/9780203446713.
- Paasi A. Place and Region: Regional Identity in Question // Progress in Human Geography. 2003. Vol. 27, iss. 4. P. 475–485. https://doi.org/10.1191/0309132503ph439pr.
- Piaget J. The Construction of Reality in the Child. L., 1954. 400 р. https://doi.org/10.4324/9781315009650.
- Robertson R., Knondker H. Discourses of Globalization: Preliminary Considerations // International Sociology. 1999. Vol. 13, iss. 1. P. 25–40.
- Rothman J., Alberstein M. Individuals, Groups and Intergroup: Understanding the Role of Identity in Conflict and its Creative Engagement // Ohio State Journal on Dispute Resolution, Forthcoming. 2013. Vol. 28, iss. 3. Р. 631–657. https://doi.org/10.2139/ssrn.2273330.