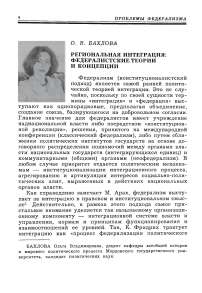Региональная интеграция: федералистские теории и концепции
Автор: Бахлова О.В.
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Проблемы федерализма
Статья в выпуске: 4 (57), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется содержание идеи региональной интеграции в различных теориях и концепциях федерализма; определены общие и особенности.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222972
IDR: 147222972
Текст научной статьи Региональная интеграция: федералистские теории и концепции
Федерализм (конституционалистский подход) является самой ранней политической теорией интеграции. Это не случайно, поскольку по своей сущности термины «интеграция» и «федерация» выс тупают как однопорядковые, предполагая объединение, создание союза, базирующегося на добровольном согласии. Главное значение для федералистов имеет учреждение наднациональной власти либо посредством «конституционной революции», решения, принятого на международной конференции (классический федерализм), либо путем сближения политических институтов государств на основе договорного распределения полномочий между органами власти национальных государств (интегрирующихся единиц) и коммунитарными (общими) органами (неофедерализм). В любом случае приоритет отдается политическим механизмам — институционализации интеграционного процесса, агрегированию и артикуляции интересов социально-политических элит, выраженных в действиях национальных органов власти.
Как справедливо замечает М. Арах, федерализм выступает за интеграцию в правовом и институциональном смысле1. Действительно, в рамках этого подхода самое пристальное внимание уделяется так называемому организационному компоненту — интеграционной системе власти и управления, нормам и принципам функционирования и взаимоотношений ее уровней. Так, К. Фридрих трактует интеграцию как «процесс федерализации политического
БАХЛОВА Ольга Владимировна, доцент кафедры всеобщей истории и мирового политического процесса Мордовского государственного университета, кандидат политических наук.
сообщества», в ходе которого различные политические организации приходят к институциональной системе, позволяющей им вырабатывать совместные решения. Конечный итог процесса — «федеральная система» — «союз групп, объединенных одной или несколькими общими целями, но сохраняющими свой специфически групповой характер для достижения других целей»2 Можно обобщить ключевые принципы организации «федеральной системы»: разграничения полномочий и предметов ведения, субсидиарности, «демонополизации государства», правового равенства государств — членов интеграционного объединения, двойного гражданства.
В смысловом отношении федералисты исходят из признания необходимости ограничения государственного суверенитета в пользу «высшего» суверенитета интеграционного объединения. По их мнению, в процессе интеграции «негативный» суверенитет национального государства, означающий независимость национальных органов власти в осуществлении своих функций от внешних суверенов, трансформируется в «позитивный», предполагающий возможность совместных созидательных действий интегрирующихся государств3
Хронологически и концептуально конституционалистский подход распадается на два течения — классический и новый федерализм, а с точки зрения осмысления уровней развития интеграционных процессов — на мондиализм и регионализм. Федералистская версия мондиализма основана на идее создания мировой федерации. Его современным вариантом является концепция «гексагональной федерации» А. И. Неклесса, отдающая приоритет социально-экономическим факторам. «Глобальная федерация» рассматривается как глобальный социальный организм, состоящий из «рядоположенных типов организации хозяйственной жизни и адекватных им субкультур» (транснационального постиндустриального Севера, высокоиндустриального Запада, быстро развивающегося нового Востока, сырьевого Юга, переходного посткоммунистического мира, глубокого Юга)4
Более разработанным в рамках федерализма является региональный подход. Во многом идеально-типическая модель здесь, как и в мировой интеграционной практике, была сформирована в Европе. Центральным пунктом европейской идеи и федералистских проектов явилась проблема обеспечения мира и безопасности. Важное значение имело выдвижение и обсуждение идеи Соединенных Штатов Европы во 2-й половине XIX — начале XX в. (с начала 70-х гг. XX в. идея замещается новым ориентиром — Европейским союзом)5 Однако, учитывая сильные националистические настроения, один из лидеров панъевропейского движения (А. Бриан) в меморандуме «Об организации европейского федерального союза» (1930 г.) особо подчеркивал, что «ни в коем случае и ни в коей мере создание предполагаемых федеральных уз между европейскими правительствами не может затронуть в чем бы то ни было ни одно из суверенных прав государств, являющихся членами подобной организации»6. В годы Второй мировой войны и после ее завершения происходит концептуально-программное оформление федералистских взглядов («Манифест Вен-тонене», 1941 г., «Манифест европейского Сопротивления», 1944 г., «Манифест из 12 пунктов», 1946 г. и т. д.). Но в конце 40-х гг. XX в. отмечается раскол федералистского движения на два течения. Первое составили традиционные («ортодоксальные») федералисты, выступающие за подписание всеобъемлющего федерального договора между европейскими государствами (Д. де Ружмон, Г. Бругмане, А. Марк и др.); второе — неофедералисты («реформисты»), настаивающие на поиске федералистских решений для конкретных проблем по принципу «ad Нос», на введении федерализма «малыми порциями» (А. Спинелли, П. Тейлор и др.)7
После создания Европейских сообществ (1951—1957 гг.) идея федерального политического союза в реальной практике европейской интеграции стала относительно маргинальной. Вместе с тем в декларации Шумана (1950 г.) развитие интеграции путем «конкретных достижений» трактовалось как первый шаг «в основании Европейской федерации, без которой невозможно сохранение мира»8 Это предполагало сохранение прежней аргументации федералистов, апеллировавших к федерализму как инструменту искоренения «национального эгоизма» — предпосылки войн и конфликтов.
Традиции прошлого и реалии настоящего оказали большое воздействие и на теоретический дискурс. Постепенно сложилось несколько версий, или гипотез в федералистской теории9.
Создание Европейского союза оживило федералистские настроения, хотя в Маастрихтском договоре 1992 г. целью было образование ЕС как «более тесного союза между народами Европы», но не федералистского образования, против чего выступила Великобритания. М. Л. Костенко и Н. В. Лавренова подчеркивают, что ЕС на тот момент формально отвечал определенным признакам федерации (единое гражданство, предполагаемое введение единой валюты и т. п.), но не являлся федерацией в «чистом виде»10. Его эволюция в конце XX — начале XXI в. (подписание Амстердамского и Ниццкого договоров в 1997 и 2001 гг., расширение до 25 членов, подписание Договора, учреждающего Конституцию для Европы в 2004 г. (из проекта которого вновь, как и из Маастрихтского договора, были изъяты федералистские определения) и начало процесса его ратификации в 2005 г.)11 обусловила еще большую диверсификацию теоретических конструкций политико-правового, социокультурного и экономического характера. На современном этапе весьма примечательным является существенное расширение аргументации федералистов. Т. Фадеева отмечает, что национальной идентичности как основному препятствию объединения Европы были противопоставлены, с одной стороны, этнокультурное возрождение регионов, с другой — европейская идентичность как следствие принадлежности к европейской цивилизации, предполагающая «диалектическое взаимодействие различных срезов национальной и религиозной идентичности, обеспечивая реальное действие принципа „единство в многообразии", составляющего суть европейской цивилизации»12
Ведущим направлением в федералистской теории на современном этапе является «неофедерализм», представители которого (Дж. Пиндер, А. Сбраджа и др.) пытаются отказаться от прежней нормативности и ориентируются на положения нео- и постнеофункционализма, сочетая соответствующее видение взаимосвязи социальных и политических явлений и «федералистской озабоченности конституционными проблемами и принципами». Федерализм трактуется ими как «философия, научная ориентация, а не набор избитых политических формул»13.
Таким образом, в современной идеологии европеизма, составной частью которой продолжает оставаться федералистская мысль, совмещаются как формальные, институциональные, так и ценностные подходы. Две важнейшие идеи — мир и демократия, по мнению К. Е. Петрова, обеспечивают ценностную и эмоциональную аргументацию в поддержку интеграционных процессов14 и, на взгляд многих авторов, федерализации Европы.
В других регионах большее распространение получили функционалистские трактовки и экономические подходы — рыночный и дирижистский. Пожалуй, только в Африке, где времена колониального владычества европейцев оставили глубокий след, можно провести общие и специфические параллели с Европой в области концептуального обоснования интеграции.
Всплеск федералистских проектов в Африке приходится на конец 50-х — начало 60-х гг. XX в. — начало деколонизации «Черной Африки». Они разрабатывались в рамках панафриканизма, в котором акцент делался на «горизонтальную» интеграцию между африканскими государствами, без привлечения бывших метрополий (К. Нкрума, Дж. Нье-рере и др.). В назначении интеграции приоритет отдавался ликвидации империализма, колониализма и достижению африканского единства. В данном случае африканское единство понималось как политическое и экономическое объединение различных стран в масштабе африканского континента в форме федерации, конфедерации или унитарного государства, предполагающих ограничение в той или иной степени суверенитета отдельных стран в пользу центрального правительства. В большинстве проектов предусматривался принцип постепенности. «Полигоном» федерализации признавались Северная и Западная Африка, потом процесс должен был распространиться на Восточную, Центральную и Южную Африку, что во многом объяснялось темпами деколонизации отдельных регионов. К концу 60-х гг. XX в. сформировалась даже концепция «концентрических кругов», которую стали применять ко всем вариантам африканского единства. Ее суть выразил тогда генеральный секретарь Африкано-Малагасийской общей организации (АМОО) Ф. Кане: «Нужно действовать по концентрическим кругам, отправляясь от самого маленького к самому большому, конечному кругу, каковым будет континентальный круг»15.
В то же время начало федерализации Африки было положено метрополией (Великобританией), инициировавшей создание Федерации Родезии и Ньясаленда (1953— 1963 гг.). В дальнейших попытках преобладали африканские политические факторы (общие политические интересы, амбиции политических лидеров и т. п.), а объективные экономические интересы в расчет не принимались. Главными субъектами процесса федерализации стали Гана и Гвинея и их лидеры: К. Нкрума и С. Туре. Характерными примерами являются союзы Гана — Гвинея (1958 г.) и Гана — Гвинея — Мали (1961 г.), где не исключалась возможность «полного отказа от индивидуального суверенитета». Другими, также безуспешными, были проекты Федерации Мали (Сенегала и Французского Судана) (1958—1960 гг.), Федерации Восточной Африки в составе Кении, Уганды, Танганьики, Занзибара (1960 г.) и пр.16
Наиболее радикальной версией рассматриваемого варианта африканского единства явился проект Соединенных Штатов Африки (К. Нкрума, М. Каддафи). В проекте общеконтинентальной федерации 1963 г. предполагалось образование политического союза с общими конституцией, парламентом, командованием вооруженными силами, внешней политикой, единой валютной зоной. Оппозицию составляли сторонники «Африки отечеств» (Л. Сенгор из Сенегала) и единства на функциональной основе (У. Табмэн из Либерии)17. С конца 60-х — начала 70-х гг. XX в. и по настоящее время лидерство в выдвижении радикальных проектов субрегиональной и общеафриканской интеграции удерживают Ливия и ее лидер М. Каддафи (проекты союзов с Египтом и Суданом, Тунисом и Чадом, 1969—1981 гг.). Проект же федеральных Соединенных Штатов Африки, пропагандируемый с конца 90-х гг. XX в., предусматривает ликвидацию границ между африканскими странами, введение общей валюты, создание единой армии, общеафриканского суда и парламента. Внимание М. Каддафи в первую очередь сосредоточивается на ускоренном формировании наднациональной структуры в области обороны и безопасно- сти. Против выступают ЮАР, Нигерия и Алжир — лидеры Африканского союза — преемника Организации африканского единства (ОАЕ)18 В целом в процессе развития африканской интеграции наблюдается все большее смещение акцентов в пользу экономического сотрудничества и интеграции на функциональной основе, причем в качестве идеальной модели рассматривается ЕС. Заметным является признание существенного значения «вертикальной» интеграции не только с бывшими метрополиями, главным образом с Францией, как в 50 — 60-е гг. XX в., но и с государствами «Группы восьми». Вполне можно согласиться с мнением, высказанным Б. Бутросом Гали, о том, что проект Соединенных Штатов Африки «с теоретической точки зрения был замечательной конструкцией, но практически не имел и не мог иметь никакого успеха»19 Негативную роль здесь сыграли и продолжают играть не только «микронационализм» африканских государств, но и неурегулированные территориальные и этнические конфликты между ними, социально-экономические проблемы и т. д.
В Латинской Америке, как и в Африке, в развитии идеи единства отчетливо проявился фактор зависимости. Борьба за освобождение от власти Испании и общее колониальное прошлое, а позже необходимость противостоять усиливавшемуся экономическому и политическому влиянию США в Западном полушарии создавали основу для формирования политического союза. С. Боливар, один из лидеров движения испаноамериканских колоний за независимость, подчеркивал, что «консолидация Нового света в единую нацию — великая идея. Наши страны имеют один и тот же язык, одни и те же нравы и религию, они должны объединиться в конфедерацию»20
Эмансипация испаноамериканских колоний была определяющим, но кратковременным фактором процесса федерализации, кульминация которого пришлась на 20-е гг. XX в.21 Укрепление позиций США, неравноправное включение латиноамериканских государств в систему экономических связей, обострение отношений между ними (Парагвайская война 1864—1870 гг., Тихоокеанская война 1879—1884 гг. и т. д.) уже во 2-й половине XIX — начале XX в. обусловили переход инициативы в разработке идеи единства к североамериканскому течению. В латиноамериканской интеграции, получившей дальнейшее развитие в 50 — 60-е гг. XX в., несмотря на возобновившееся стремление обеспечить самостоятельность в экономической и политической сфере, ставшее еще более актуальным в 90-е гг. в связи с выдвижением США проекта формирования зоны свободной торговли от Аляски до Огненной Земли (АЛКА, ФТАА), приоритетными остаются социально-экономические аспекты и проявляются лишь зачатки элементов наднациональности. Признание многомерности интеграции ведущими интеграционными группировками региона (Южноамериканским общим рынком (Меркосур), Андским сообществом наций (АСН) и др.) не означают согласия их участников и лидеров (Аргентины, Бразилии, Венесуэлы) идти на политическое объединение, тем более в федеративной форме.
Наименее востребованной федеративная идея оказалась в Азии, что обусловлено ее чрезвычайной гетерогенностью в этническом, религиозном, культурно-цивилизационном, политическом и социально-экономическом планах. Относительную поддержку она получила лишь в арабском мире, включая Северную Африку, который, напротив, по мнению специалистов, отличается большей степенью исторической и этнокультурной целостности22 Идея арабского единства приобрела политическое содержание в конце 50-х — начале 60-х гг. XX в., когда было сделано несколько попыток добиться ее реализации «сверху» (проекты Объединенной Арабской Республики в составе Египта и Сирии, 1958— 1961 гг., Федерации Египта, Сирии, Ирака, 1963 г., Федеративной Арабской Республики Ливии, Египта, Судана и Сирии, 1970—1971 гг. и др.)23. Однако предполагалось, что арабское единство на основе федерального союза может быть обеспечено при условии предварительного прохождения периода экономической кооперации, координации и признания полицентризма. Обнаружились различные идейнофилософские подходы к целям и формам достижения идеи арабского единства, а наиболее последовательной сторонницей федерального союза выступила Ливия — африканское государство, проводившее амбициозную и радикальную политику, не встречавшую одобрения у других арабских государств. Оказали воздействие и внешние факторы:
расхождения во внешнеполитических ориентациях, в отношении к Израилю и т. п.
В неарабском мире, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии, приоритетными стали действия в направлении «азиатского решения азиатских проблем», ориентированные на укрепление национальной и региональной сопротивляемости против внешнего вмешательства и внутренних вызовов (Декларация согласия АСЕАН, 1976 г.). Выдвигаемый при этом «проектный подход» (развитие «микроинтеграции» в так называемых зонах развития — приграничных регионах), приверженность модели «открытого регионализма» и экономической кооперации, политические разногласия между государствами не способствовали федерализации. Напротив, крах Федерации Малайзии, Филиппин и Индонезии (МАФИЛИНДО, 1963—1967 гг.) во многом явился толчком к разработке специфических форм взаимодействия24 Оживление интеграционных настроений в Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце XX — начале XXI в. (проекты создания зон свободной торговли в АСЕАН и АТЭС, таможенного союза в ССАГПЗ и т. п.) относится преимущественно к экономической области и лишь частично затрагивает политические аспекты (борьбу с терроризмом, оборонное сотрудничество и т. п.), а именно: исключительно в контексте межгосударственного сотрудничества.
Таким образом, федерализм занимает важное место в теории и практике международных интеграционных процессов, но на данный момент является, скорее, политическим проектом и теоретической конструкцией. Кроме того, федералистская мысль как составляющая теории интеграции в значительной степени остается уделом европейцев, а шансы на воплощение федеративной идеи, хотя бы частичное, имеются, на наш взгляд, только в Европе и на постсоветском пространстве. Концептуально же неофедерализм как политическая теория интеграции все более ориентируется на модель интегрального федерализма.
Список литературы Региональная интеграция: федералистские теории и концепции
- Арах М. Европейский союз: видение политического объединения. М., 1998. С. 22.
- Шишков Ю. В. Теории региональной капиталистической интеграции. М., 1978. С. 143.
- Егоров А. В. Правовая интеграция и ее содержание//Государство и право. 2004. № 6. С. 74-84
- Современные буржуазные теории международных отношений/Отв. ред. В. И. Гантаман. М., 1976.
- Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме)/Отв. ред. А. И. Неклесса. СПб., 2000. С. 197.