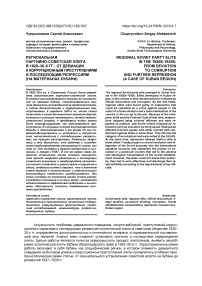Региональная партийно-советская элита в 1920-30-х гг.: от девиации к коррупционным преступлениям и последующим репрессиям (на материалах Кубани)
Автор: Чупрынников Сергей Алексеевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В 1920-30-е гг. в Советской России была оформлена региональная партийно-советская элита. В статье рассматривается процесс ее становления на примере Кубани, сопровождавшийся вначале девиантным поведением ее представителей, а затем должностными и коррупционными преступлениями. К середине 1930-х гг. элита стала позволять в своей должностной практике деяния, которые в условиях напряжения и полной мобилизованности страны, в преддверии войны можно было квалифицировать как антинародные преступления. В ситуации острой внутрипартийной борьбы и действовавшего в то время УК они переквалифицировались из уголовных в политические, антисоветские с последующими репрессиями, как правило расстрелами. Репрессии затронули и тех безвинных, кто работал с осужденными представителями региональной элиты или знал их. Они попадали в разряд сообщников и ссылались в лагеря ГУЛАГ. В то же время через репрессии сталинская элита сломила троцкистский проект «мировой революции» и интеграции советской экономики в международное капиталистическое хозяйство и реализовала «социализм в одной, отдельно взятой стране», что в конечном счете привело к политической и идеологической консолидации советского истеблишмента. При этом система не позволяла элите использовать служебное положение в личных целях, заставляла ответственно и эффективно работать и выполнять обязанности согласно требованиям высшего руководства.
Партийно-советская элита, региональная элита, должностные преступления, незаконные поборы, пьянство, коррупционные преступления, советский истеблишмент, номенклатура, репрессии, бюрократия, кубань
Короткий адрес: https://sciup.org/149133958
IDR: 149133958 | УДК: 94:[323.396+329](470.62)“192/193” | DOI: 10.24158/fik.2019.4.7
Текст научной статьи Региональная партийно-советская элита в 1920-30-х гг.: от девиации к коррупционным преступлениям и последующим репрессиям (на материалах Кубани)
Чупрынников Сергей Алексеевич
Актуальность проблемы девиантного поведения, злоупотреблений, преступлений коррупционного характера и последующих репрессий политической элиты в советском обществе 1920– 30-х гг. определяется дискуссионностью и понятийного аппарата, и содержательной составляющей этих явлений. Анализ темы позволит установить причины и последствия перерождения элиты. Целью работы является попытка переосмыслить процесс элитогенеза, выявить своеобразие политической элиты Кубани (Краснодарского края) в 1920–30-е гг. Территориальные рамки работы включают в себя Кубань как специфический регион, в котором элементы девиантного поведения на бытовом уровне и коррупционных преступлений элиты проявлялись особенно ярко. Хронологические рамки статьи: от окончательного установления советской власти на Кубани до репрессий 1937–1938 гг.
В статье учтены достижения как отечественных ученых: А.В. Баранова [1], О.С. Березкиной [2], С.А. Кислицына [3], М.А. Фельдмана [4], в работах которых достаточно полно установлены структура, состав политической элиты, тенденции трансформации элитных групп, их роль в институционализации большевистского режима первой половины 1920-х гг., в том числе и на Юге России (Дон, Кубань, Ставрополье), так и иностранных: Р. Мертона [5], Э. Дюркгейма [6], которые развили понятие и представление об аномии, определили ее свойственность для общества, осуществляющего переход от традиционного к промышленному в условиях смены основных признаков и характеристик социума, выработали теорию аномии как причины девиантного поведения. Вместе с тем вопросы девиантного поведения и правонарушений (преступлений) со стороны партийной, советской, профсоюзной элиты Юга России, в частности Кубани, в послереволюционные годы еще не получили должного освещения.
Если в 1920-е гг. такие проступки и преступления рассматривались в основном на партийных, профсоюзных собраниях, товарищеских судах, то в 1930-е гг. большинство из них квалифицировались как направленные против основ государственного и общественного строя (ст. 58 УК РСФСР), карались уголовными наказаниями и влекли политические репрессии. Поэтому региональная элита, с одной стороны, обоснованно каралась и была безусловно виновной в проступках и преступлениях, а с другой - беспричинно подвергалась политическим репрессиям, так как Советское государство рассматривало любые девиации лишь с политической точки зрения и дополняло другими составами ст. 58 УК РСФСР, что влекло неоправданно тяжкие виды и меры наказания за содеянное. Преступление, совершенное группой лиц, расценивалось как участие в контрреволюционных организациях и по п. 12 ст. 58 осуждалось как антисоветская деятельность.
Проследим последовательно некоторые девиантные и преступные практики региональной элиты в 1920-30-е гг. на архивных материалах Краснодарского края.
Вопросы девиантного поведения местной партийно-советской элиты встали на повестку дня практически сразу же после установления советской власти. Например, в протоколе № 12 общерайонного партийного собрания 3-го района Краснодарской парторганизации 7 сентября 1921 г. «Об исключении Донской комиссией по чистке партии Касаткина (бывшего секретаря Куб-Черобласткома)» выступавшие отмечали: «Тов. Касаткин был замечен в пьянстве с проститутками во время десанта Врангеля. Уклонялся из Отряда особого назначения». И, как итог, постановили: решение правильное [7, л. 38а].
Другой пример. Из доклада областной партийной контрольной комиссии (т. Чукан) на VII Кубано-Черноморской областной партконференции 16-23 декабря 1923 г.: «...идет процесс разложения среди членов партии и в первую очередь среди руководящих работников. На первом месте стоит пьянство. Парткомиссия распределяет пьянство на 4 части: первые - те, кто пропивает свой заработок; вторые - которые сами варят самогон; третьи - должностные лица, которые, пользуясь служебным положением, “достают” бутылку; четвертые - официальная выпивка в честь разных торжеств: именины, отъезд, приезд товарищей и т. п. Пример: один товарищ из ответственных работников, руководитель областной организации в Краснодаре и член областного правления профсоюза, пользуясь своим положением, запрягает лошадь, которая имеется у него в учреждении, и приказывает кучеру везти себя на свадьбу. На свадьбе кучер ждет его четыре часа, товарищ изрядно напивается. В 2 часа ночи велит возвращаться. По приезде вздумал еще покататься по городу. Кучер возражает, завязывается драка, дело доходит до револьверов. Объявили выговор. Не прошло и двух месяцев, как этот же товарищ снова попадает в партийноконтрольную комиссию: он отправился в ресторан, связался с нэпманами, учинил скандал.
Другой случай: три товарища, работающие на водном транспорте, отправились в ресторан. Выпили пару бутылок водки. По дороге встречают гражданина, который показался им подозрительным, они его задерживают, при этом два раза стреляют в воздух. Тот оказался коммунистом, отправился в милицию, берет милиционеров и задерживает этих пьяниц. Между милиционерами и ними завязывается перестрелка. И только после ранения одного они сдались. Партийно-контрольная комиссия постановила исключить их из партии» [8, л. 56].
Таких случаев пьянства в первой половине 1920-х гг. (в том числе и с перестрелками) было большое количество. «...ПКК <партийно-контрольная комиссия> задавала вопрос себе, почему сейчас наблюдается столько случаев пьянства, но ответ найти не могла. Приходят к ответу, что это старые привычки и традиции. В станицах пьют, потому что нет культурной жизни. Очень многие говорят: “Как можем не пить, когда пили с детства”, хотя и осознают, что это нехорошо. КК относилась к делам по пьянству очень “серьезно” (в кавычки взято автором. - С. Ч. ): если рабочие и крестьяне, напиваясь, не совершали особых проступков, то дело оканчивалось выговором, моральным воздействием, “переброской”» [9, л. 54].
Такая «серьезность» по отношению к представителям рабочего класса и «простым» людям наблюдалась и в 1930-х гг. Приведем пример из доклада «О работе Северо-Кавказской железной дороги и политико-моральном состоянии союзной массы от 9 февраля 1932 г.». Объяснение составителя поездов ст. Новороссийск т. Постригина о неявке на дежурство: «С 15 декабря на 16 декабря я не мог явиться на дежурство ввиду того, что был пьян. Получил получку и встретился с Коваленко, который пригласил меня в ИТровскую столовую, взял два обеда, вытаскивает пол-литра, наливает. Я стал говорить, что мне на дежурство в ночь. Он сказал, что это не важно, от этой не будешь пьян, и подбил меня. Выпили мы пол-литра, и я почувствовал себя пьяным через мою слабость. Я купил еще литр и свалился с ног. Я сам виноват, даю слово, что такого больше не повторится» [10, л. 130]. Причем такие случаи были не единичными. А действовавшие в то время товарищеско-производственные суды, которые занимались такими случаями, рассматривали дело обычно только через 1-1,5 месяца и выносили решение: или «порицание», или взятие «на поруки». После принятия Постановления ЦИК и СНК СССР от 15 ноября 1932 г. «Об увольнении за прогул без уважительных причин» дела стали рассматривать быстрее, через 3-4 дня после происшествия.
Нередким явлением были и такие преступления, как взятки . Первый их вид определялся как взятки из-за «материальной необеспеченности». Наиболее часто они встречались в органах милиции. Другой - «злостные» [11, л. 58].
Распространены были и случаи простого очковтирательства. В вышеназванном выступлении представителя парткомиссии приводится такой пример: «Обнаруживается недостача зерна в 300 пудов. Делают акты о “чистке” его, а потом все списывают. Когда посчитали, сколько нужно машин и времени, чтобы действительно “очистить” зерно, то выяснилось, что надо 570 (!) дней, а в актах - вся работа за неделю, и “очистили” 20 000 пудов» [12, л. 56].
Одним из проявлений девиантного поведения было кумовство, когда приезжавший на работу (на должность) пристраивал своих друзей, сватов и пр. Из выступления Голдовича - инструктора обкома ВКП(б): «1/3 совслужащих г. Краснодара составляют родственники, устроенные, минуя биржу труда, по протекции» [13, л. 88]. Усугублялось кумовство назначенчеством, которое появилось после Х съезда РКП(б). Именно на этом съезде была взята линия на него по всем направлениям партийной, советской и профсоюзной работы. Назначенчество маскировалось так называемой «рекомендацией» с припиской «обязательно». И если это «обязательно» не выполнялось, то разгонялась целая организация, вплоть до губернского масштаба.
Следует отметить и такой момент, как усиление материально-финансовой дифференциации среди членов партии. Этот факт отмечался в выступлениях на партийной конференции 1921 декабря 1923 г. [14, л. 128].
Положение с проблемами девиации в условиях нэпа усугублялось запредельной бюрократизацией: «наркомы заседают 2 недели, наркоматы не работают», а о количестве общественных организаций и говорить не приходится: простой трудящийся, а тем более учащийся (в первую очередь - студент вуза) был членом не менее пяти из них. В 1930-е гг. Краснодарскому горкому ВКП(б) пришлось даже принимать постановление об ограничении их числа до трех [15].
Сама бюрократизация стала бичом «живой жизни» и в 1930-е гг. Вот как характеризовала сложившуюся ситуацию периодическая печать того времени: «Крайзо <краевой земельный отдел> в отдельные дни посылало по 1200-1700 бумаг в районы. За четвертый квартал 1939 г. послано в районы 36 тыс. пакетов. Ценность этих “циркуляров” никогда не проверялась» [16].
Анализ архивных источников 1930-х гг. позволяет сделать вывод, что часть региональной элиты, включающей партийных, советских и профсоюзных чиновников, была привлечена к уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционного характера, в нарастающей мере переходящей в политические репрессии.
Это касалось и краснодарской партийно-советской элиты. Приведем некоторые примеры. Они в некоторой степени субъективны (в них имеют место личная неприязнь, сведение счетов и т. п., но открытости, прямоты, нетерпимости к несправедливости, определенной смелости и других черт, еще оставшихся от первых послереволюционных лет, было гораздо больше, чем у элиты более поздних лет), но заслуживают внимания.
Из выступления на собрании горпартактива 21–24 марта 1937 г. прокурора города Краснодара Романова: «…партактив должен знать, что в прошлом году в нашем городе было собрано до миллиона рублей незаконных поборов, и как они израсходованы, до сих пор об этом отчетов нигде не было и никто не скажет......эти поборы были с организаций, люди носили не только тысячи, но и десятки тысяч по требованию Бурова (секретарь Краснодарского ГК ВКП(б). - С. Ч.) и председателя горсовета Ивницкого (Л.В. Ивницкий в 1922 г. был председателем КубЧеробл-совпрофа. - С. Ч.)... Собрали 700 тыс. р. на оборудование одного лишь Дворца пионеров. И до сего времени абсолютно никто не сделал глубокой ревизии, куда пошли эти денежки» [17, л. 102]. Правда, в свое «оправдание» о сборе денег на Дворец пионеров Ивницкий сказал, что деньги «собирал не горсовет, а специальный комитет, председателем которого был. Рывкин (первый секретарь Краснодарского ГК ВКП(б). - С. Ч.)» [18, л. 142].
О злоупотреблениях председателя горсовпрофа Мордуховича (организация банкетов, которые в выступлениях назывались «крупными пьянками», сборов денег с профорганизаций по 2,5– 3 тыс. р. и др.) говорилось в выступлениях на собрании горпартактива 14–16 января 1937 г. Кстати, именно на этом активе в одном из выступлений его прямо назвали «барин» [19, л. 55, 80 об., 81].
Из Акта комиссии от 27 апреля 1937 г. по проверке обвинений Ивницкого – председателя горсовета рядом членов партии: «…в конце 1936 г. были изготовлены по распоряжению председателя горсовета Ивницкого без согласия на то КИКа (краевого исполнительного комитета. – С. Ч. ) казачьи костюмы для Ивницкого, Марченко (с марта 1931 г. по март – апрель 1934 г. – председатель Краснодарского горсовпрофа, затем секретарь одного из городских райкомов ВКП(б). – С. Ч. ), Бурова (секретарь Краснодарского ГК ВКП(б). – С. Ч. ), Мордуховича – председатель Краснодарского горсовпрофа с апреля 1934 г. по февраль 1937 г. – С. Ч. ) и Энгельса (член ГК ВКП(б). – С. Ч. ), и стоимость их 3 403 р. оплачена за счет средств управления рынками Горвну-торга, для того чтобы списать эту сумму, с текущего счета Госбанка были взяты фиктивные счета в торгорганизациях, якобы за купленную спецодежду…» и далее: «…для выдачи пособий на лечение было перечислено 25 тыс. р. на личный счет Ивницкого в сберкассу, и распределение их проводилось лично Ивницким. Списка получивших пособия нет» [20, л. 23]. Кроме этого, перечисляется еще ряд других злоупотреблений: нарушение сметной дисциплины, поборы с организаций, рабочих и служащих (на устройство пляжей для детей и парка – 28 113 р.), незаконные аресты счетов предприятий [21, л. 26] и другие (решение о взимании квартплаты, какую не имели права взимать, построение домов Домтрестом и Коммунхозом, которые рушатся, трехдневные очереди на прием и т. д.) [22, л. 42, 43].
Такие проступки и преступления первых лиц были обусловлены аналогичными действиями лиц рангом пониже. На общегородском партийном собрании 20 декабря 1936 г. Краснодара в одном из выступлений отмечалось: «Передо мной решение бюро ГК ВКП(б) о хищениях в системе Пищеторга от 27 сентября. Вы думаете, руководитель Пищеторга Коренев и парторганизация сделали выводы. Нет, после этого хищения растраты, жулики в аппарате только увеличились. Сегодня раскрыли группу в 23 человека, которые разворовали хлеба на 43 тыс. р. Десять заведующих магазинами растратили 27 тыс. р., спекулировали на сумму в 30 тыс. р. Когда Коренева вызвали на допрос в прокуратуру, он сказал: если дадут 6–7 месяцев принудительных работ, то буду отрабатывать, а если длительный срок, то потяну за собой остальных» [23, л. 42]. Кто эти «остальные» – вопрос риторический.
Вышеуказанные деяния в условиях полной мобилизованности страны и в преддверии войны можно было квалифицировать как противоправные, считавшиеся в то время антинародным преступлением. Заключения проверяющих – снять с работы с дальнейшим расследованием.
Далее эти преступления умышленно квалифицировались следователями как антигосударственные и, соответственно, как политические – антисоветские. Все, кто работал с осужденными представителями номенклатуры или просто знал их, попадали в разряд сообщников и ссылались в лагеря ГУЛАГ. С ними заодно сводили личные счеты. Они были безвинно репрессированными. Здесь можно привести многочисленные примеры, часть из которых просто абсурдные. Из выступления в прениях на заседании Краснодарского городского партактива 28 января 1938 г.: «…в Армянском районе исключили из партии Арапетьяна 1909 г. рождения как белого офицера (!) и наряду с этим пришили еще 16 эпизодов (смех в зале). Как он мог быть белым офицером, ведь он 1909 г. рождения… А на самом деле Арапетьян 8 лет работал на цемзаводе, 5 лет служил в рядах Красной армии, имел 7–8 благодарностей» [24, л. 19–20].
Складывающаяся советская политическая система была демократической, но само понятие демократии интерпретировалось с классовых позиций. Господствующим был рабочий класс, с соответствующим содержанием ценностных ориентаций и уровнем политической культуры. Поэтому демократии буржуазных стандартов в тех условиях, с безраздельно господствующим пролетарским менталитетом и бедностью, быть не могло по определению. На наш взгляд, именно с таких позиций оценивал демократию А.И. Микоян, выступая на VII Кубано-Черноморской обл-партконференции 16–23 декабря 1923 г.: «…демократия – вещь дорогая, создавать демократическое управление – это значит нести большие расходы» [25, л. 73]. В тот период времени Советское государство позволить себе этого не могло.
Становление региональной партийно-советской элиты в 1920–30-х гг. сопровождалось ее противоправными действиями: от проступков девиантного характера до коррупционных преступлений, которые в условиях 1930-х гг. нередко необоснованно квалифицировались как антигосударственные с идеологической пометой «антисоветские». И если в 1920-х – первой половине 1930-х гг. они, как правило, заканчивались выговорами, взятием на поруки, переброской, то во второй половине 1930-х гг. для борьбы с ними максимально широко использовались меры уголовноправовой ответственности. Региональная элита, с одной стороны, непрерывно воспроизводилась и обновлялась, а с другой, чтобы не паразитировала, – репрессировалась. Последнее не позволяло ей превратиться в самодостаточную и самоценную сущность, т. е. в номенклатуру, а заставляло ответственно и эффективно служить своему народу, Советскому государству. За безответственность и неэффективность неизбежно следовало наказание: лагеря ГУЛАГ или расстрел.
Частные примеры изучения репрессий и осмысления их на основе индуктивного метода подводят и к выводу более широкого плана: репрессии привели к тому, что к 1939 г. в основном завершилась консолидация высшего советского истеблишмента – и политическая, и идеологическая. Установившаяся сталинская система управления, в которой основным звеном была персональная ответственность, отвечала своему времени и находилась на достаточно высоком уровне.
Ссылки:
Список литературы Региональная партийно-советская элита в 1920-30-х гг.: от девиации к коррупционным преступлениям и последующим репрессиям (на материалах Кубани)
- Баранов А.В. Трансформации большевистской партийной элиты в раннесоветском обществе (по материалам Юга России) // Историческая и социально-образовательная мысль. Краснодар, 2015. Т. 7, № 8. С. 14-21. DOI: 10.17748/2075-9908-2015-7-8-14-21
- Березкина О.С. Революционная элита переходного периода (1921-1927) // Свободная мысль. 1997. № 11. С. 56-80.
- Кислицын С.А. Эволюция и поражение большевистской элиты. Ростов н/Д., 1995. 103 с.
- Фельдман М.А. Партийно-советская элита в 1922-1928 гг.: социокультурные характеристики и линии политического поведения // Вопросы управления. 2018. № 3 (52). С. 29-36. DOI: 10.22394/2304-3369-2018-3-29-36
- Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности (Современные буржуазные теории) / пер. с фр. Е.А. Самарской; ред. пер. М.Н. Грецкий. М., 1966. C. 299-313.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // История социологии ХХ в.: университетский курс: хрестоматия / рук. проекта И.Е. Покровский. М., 2007. 432 с.
- Центр документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИ КК). Ф. 17. Оп. 1. Д. 422. Л. 38а.
- ЦДНИ КК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 296. Л. 56.
- Государственный архив Ростовской области. Ф. Р-2287. Оп. 1. Д. 3731. Л. 130.
- ЦДНИ КК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 296. Л. 58.
- ЦДНИ КК. Ф. 1072. Оп. 1. Д. 259. Л. 6.
- Большевик. Орган Краснодарского крайкома и горкома ВКП(б), крайисполкома. Краснодар, 1940. 11 марта.
- ЦДНИ КК. Ф. 1072. Оп. 1. Д. 947. Л. 102.
- ЦДНИ КК. Ф. 1072. Оп. 1. Д. 944. Л. 55, 80 об., 81.
- ЦДНИ КК. Ф. 1072. Оп. 1. Д. 949. Л. 42, 43.
- ЦДНИ КК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 298. Л. 73.