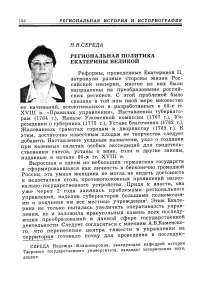Региональная политика Екатерины Великой
Автор: Середа Надежда Владимировна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональная история и историография
Статья в выпуске: 1 (50), 2005 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные тенденции реформирования региональной политики Российской империи Екатериной Великой, включая ее децентрализацию, формирование локальных межклассовых сообществ, региональных элит.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222901
IDR: 147222901
Текст научной статьи Региональная политика Екатерины Великой
Реформы, проведенные Екатериной II, затронули разные стороны жизни Российской империи, многие из них были направлены на преобразование российских регионов. С этой проблемой было связано в той или иной мере множество ее начинаний, воплотившихся в разработанных в 60-е гг. XVIII в. «Правилах управления», Наставлении губернаторам (1764 г.), Наказе Уложенной комиссии (1767 г.), Учреждении о губерниях (1775 г.), Уставе благочиния (1782 г.), Жалованных грамотах городам и дворянству (1785 г.). К этим, достаточно известным плодам ее творчества следует добавить Наставление уездным казначеям, указ о создании при казенных палатах особых экспедиций для свидетельствования счетов, уставы о вине, соли и другие законы, изданные в начале 80-х гг. XVIII в.
Выросшая в одном из небольших германских государств и сформировавшаяся как личность в бесконечно громадной России, эта умная женщина не могла не видеть достоинств и недостатков столь противоположных проявлений национально-государственного устройства. Придя к власти, она уже через 2 года занялась проблемами регионального управления, наделив губернаторов большими полномочиями и подчинив им все местные учреждения1. Этим Екатерина не только пыталась увеличить оперативность управления, но и заложила краеугольный камень всех последующих преобразований в данной сфере государственной деятельности. Следует согласиться с мнением А.Б.Каменско-го, что перенесение центра тяжести в управлении на территории готовило почву для проведения в последую-
СЕРЕДА Надежда Владимировна, заведующая кафедрой истории Тверского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент.
щем коллежской реформы2 Однако в литературе явно недооценивается значение этого и целого ряда других законодательных актов для становления и развития российской провинции и региональных сообществ. Еще до начала административной реформы и уменьшения территории губерний Екатерина II расширила круг властных полномочий губернаторов. «В прежние годы, — отмечает Д.И.Иловайский в работе, посвященной деятельности Я.И.Си-верса, — коменданты гарнизонов, магистраты, пограничные смотрители, чиновники, заведовавшие ямщиками, подушным сбором, соляною регалией, во многом действовали независимо от губернаторов и губернских канцелярий3, Наставление губернаторам делало губернаторов „хо-зяевами“»4 Теперь им должны были подчиняться все местные учреждения и работающие в них чиновники. Это, наряду с другими нововведениями, вело к ликвидации разобщенности местного населения, которое ранее сложилось в силу подчиненности различным центральным органам управления, закладывало основы формирования региональных сообществ.
Следующим крупным шагом на этом пути было издание Учреждений о губерниях5 Сама императрица оценивала этот законодательный акт как «непременный» и «фундаментальный». Исследователи, признавая его значение в развитии российской государственности, расходятся во мнениях относительно целей и последствий санкционированных им преобразований. В дооктябрьский период отечественные ученые относились к Екатерине II и ее деятельности вполне благосклонно, отмечая направленность ее преобразований на раскрепощение сословий, притом не только дворянского, но и городского; децентрализацию управления и улучшение жизни населения; приближение к народным массам судебных и контрольных инстанций, ликвидацию безначалия на местах6 Рассматривая издание Учреждений как этап в децентрализации управления, исследователи связывали реформу местного управления с ликвидацией коллегий, трансформацией полномочий Сената, изданием Жалованных грамот городам и дворянству и созданием органов самоуправления, т.е. пытались представить реформу управления как целостную, где ликвидация цен- тральных органов управления неизбежно должна была сказаться на полномочиях высших и местных органов власти. Рассуждая о результатах реформ, исследователи часто указывали, что они не вполне удались. И.Блинов, исследовавший эволюцию компетенции губернаторов, противопоставлял замыслы императрицы и их исполнение, считал, что и после введения Учреждения о губерниях «правительство продолжало работать за общество, от которого было много выборных, но совсем не было правящих. С одной стороны стоял могущественный коронный чиновник, с другой стороны — слабые общественные группы, не им было отстаивать свою независимость, на долю населения провинции по-прежнему оставался главным образом удел безмолвного и безропотного подчинения»7
В советской историографии Учреждение о губерниях оценивалось прежде всего с позиции значения его для дворянства и предотвращения возможности повторения пугачевщины. Новые многочисленные губернские и уездные учреждения должны были, согласно наиболее распространенному мнению, предупреждать повторение подобных народных выступлений8 Лишь в последнее десятилетие оценки отечественных исследователей в отношении Екатерины II и ее реформ несколько смягчились.
Современная историография, в том числе отечественная, отдает дань идее децентрализации. В частности, О.А.Омельченко и А.Б.Каменский отмечают взаимосвязь сокращения числа коллегий с «перенесением повседневного администрирования во всем объеме на местный, губернский уровень», а также с идеями Просвещения о том, что благосостояние целого, т.е. всего государства, зависит от правильного управления его частями9 Однако они не видят серьезного смысла в передаче некоторой доли управленческих полномочий на места. О.А.Омельченко считает, что администрация, созданная в ходе реформы местного управления, не способствовала проведению в жизнь идей просвещенного абсолютизма, потому что гарантией осуществления правительственного курса является «высокий уровень административно-правовой культуры», а ее в российском обществе не было10.
А.Б.Каменский, в целом высоко оценивавший реформы Екатерины II, разделяет точку зрения Омельченко в том, что «смысл и задача централизма оставались неизменными»11, но приводит в подтверждение свои обоснования. Он считает, что Екатерина создавала Учреждение о губерниях в рамках теории полицейского государства, согласно которой власть на местах должна быть «единообразной, унифицированной и направленной на то, чтобы каждая клеточка обширной территории и каждый ее обитатель находились под неусыпным контролем правительственного чиновника»12 В связи с таким подходом к оценке преобразований находится и другое заключение Каменского о том, что «степень самостоятельности местных органов оставалась крайне ограниченной, вся их деятельность была строго регламентирована, все принципиальные решения политического характера по-прежнему принимались в центре, и именно там назначался и отчитывался глава губернии, подчиненный непосредственно самодержцу. Ни один из вновь создаваемых органов исполнительной власти или самоуправления не имел права устанавливать на своей территории какие-либо свои законы или правила, вводить собственные налоги и пр.»13 Как видим, Омельченко делает акцент на неспособности российской провинции и ее элиты участвовать в реализации замыслов императрицы, а Каменский на том, что децентрализации не было и быть не могло в силу приверженности Екатерины идеям полицейского государства. Так или иначе, но в историографии не рассматривался вопрос о становлении регионов и региональной элиты в ходе реформ Екатерины II14
Следует отметить, что историки анализируют прежде всего планы императрицы и их закрепление в нормах законодательства. Процесс реализации предписанных законами положений в практике управления исследовался крайне недостаточно и, как правило, на основе законодательства10 Восполнить этот пробел в какой-то мере позволит анализ делопроизводственной документации учреждений Тверской губернии, которая возникла одной из первых, и вместе с Новгородской и Псковской стала полигоном проверки программных заявлений Екатерины II.
В существующих оценках проведенных Екатериной преобразований недоучитывается тот факт, что ликвидация ведомственного управления была важнейшим, а, возможно, единственно верным шагом на пути окончательного преодоления расчлененности населения регионов России, особенно городского в силу того, что оно было долгое время подведомственно различным центральным учреждениям. В управлении каждым уездом, городом участвовало по несколько ведомств, поскольку различные категории населения подчинялись разным учреждениям: купечество и мещанство — Главному магистрату, а проживавшие в городах оружейники — Оружейной канцелярии, ямщики — Ямской канцелярии, духовенство — духовным правлениям и консисториям, помещики — Поместно-Вотчинной коллегии и т.д. Такая система не только не способствовала формированию единых территориальных сообществ, но и вела к обособлению отдельных групп населения, поскольку члены каждой из них имели особые права, льготы и обязанности16
Такая ситуация в условиях Нового времени крайне затрудняла управление страной, делала его малоэффективным, мешала формированию региональных интересов и местных сообществ, в том числе городских. Направленность политики на консолидацию населения и возрождение территориальных сообществ отчетливо была выражена и в деятельности Петра I, но наибольшие успехи в этом направлении связаны с деятельностью Екатерины Великой и ее реформой управления17 Об этом позволяют говорить результаты проведенного нами исследования делопроизводственной документации городских учреждений Тверской губернии, прежде всего сохранившихся документальных комплексов городских магистратов. Именно эти учреждения, возникшие в ходе петровских преобразований и сохранившиеся при проведении реформы управления Екатерины II, позволяют увидеть механизм осуществления реформы и его направленность на создание региональных сообществ.
Прежде всего следует отметить, что изменения в организации делопроизводства и документопотоках определенно свидетельствуют о процессах децентрализации в управлении. Численность поступавших в магистраты указов и круг их авторов постепенно менялись, что является показателем не только эволюции компетенции структур по управлению городом, но и существенных изменений в системе управления в целом. В первые годы екатерининской губернской реформы авторами указов, поступивших в магистраты верхневолжских городов, помимо Тверского наместнического правления, были различные центральные учреждения: коллегии, банки, Главная соляная контора, а также наместнические правления различных губерний, местные губернские учреждения. Магистраты оказывались вписанными одновременно в две системы управления: горизонтально и вертикально ориентированную, но уже в 1782 и 1786 гг. факты поступлений указов центральных учреждений не отмечены ни в регистрационных книгах поступающих документов, ни в журналах заседаний магистратов. Это можно рассматривать как показатель успехов реформы. Функции ликвидированных центральных учреждений распределялись между Сенатом, наместниками, правителями наместничеств и губернскими структурами по мере становления последних18
Полученные данные не позволяют согласиться с положением о том, что «смысл и задачи централизма оставались неизменными»19. Число местных учреждений и чиновников существенно увеличилось20, что способствовало усилению контроля правительства, однако нельзя недоучитывать разницы между контролем над низшим звеном местных управленческих структур, который был до реформы, и тем, который сложился благодаря ей. Если раньше контроль за местными учреждениями и категориями населения осуществлялся из различных учреждений Москвы и Петербурга, то теперь — из губернского центра, причем губернии гораздо меньшей по масштабу, чем ранее. В этом плане совершенно правы исследователи, утверждавшие, что власть была приближена к населению и что это отвечало его интересам21 Исполнительная власть и контроль оказались сосредоточенными в руках губернского правления, а это другой характер централизации. Здесь мы опять вынуждены вернуться к теории полицейского государства и мнению А.Б.Каменского о том, что императрица действовала в ее рамках, а согласно этой теории нужен был жесткий контроль над местными структурами. От себя добавим, что в рамках столь большого государства, как Россия, он тем более был нужен. Однако именно в масштабах огромного государства нельзя было осуществлять плодотворный контроль из центра, что и поняла Екатерина, пытаясь это исправить. Таким образом, она выступает как гениальный тактик, понимающий, что искусство политики в компромиссе, в том числе между идеей полицейского государства и реальностью жизни России.
Второй этап в осуществлении реформы управления был связан с налаживанием функционирования губернских структур управления. Это особенно заметно на примере анализа переписки городских магистратов с губернским. Сокращение численности указов губернского магистрата в 1782 г. (по сравнению с 1778 г.) является следствием сокращения его компетенции. Это было, в свою очередь, результатом внедрения в жизнь провозглашенного принципа разделения властей на местном уровне, что требовало передачи решения ряда вопросов из ведения губернского магистрата в другие местные структуры. Именно в связи с реализацией принципа разделения властей соляная продажа, например, как один из важнейших источников дохода переходила в ведение Казенной Палаты. В 1786 г. численность указов, поступивших в городовые магистраты из губернского, снова возрастала, причем среди них явно преобладали те, что связаны с выполнением магистратами закрепленных новым законодательством функций — судебных. Это следует расценивать как яркий показатель успехов второго этапа реформы, на котором закладывалась основа регионального управления, сочетающегося с элементами отраслевого, в конечном итоге сфокусированного на губернском правлении.
Наше исследование выявило поэтапность передачи функций. Сначала от коллегий — наместнику и правителю наместничества, затем наместническим (губернским) правлениям и далее другим губернским структурам: казенным палатам, приказам общественного призрения, губернским судебным инстанциям. Постепенность нужна была для сохранения стабильности и для того, чтобы служащие новых учреждений имели время и возможности осваивать азбуку управления и нормы права. Необходимость добиваться от уездных и городских структур выполнения возложенных на них функций, отвечать на задаваемые ими вопросы не только способствовала освоению губернскими чиновниками основ законодательства, но и вносила в их деятельность некоторый элемент творчества, т.к. возникала потребность адаптировать действующее законодательство к реалиям жизни каждого города, уезда. Повышение уровня квалификации следующего звена управленческого персонала, в свою очередь, обеспечивалось в значительной мере рассылкой из губернского правления указов, повторяющих и интерпретирующих ранее изданные указы верховной власти. Необходимость такого способа повышения квалификации была, с одной стороны, обусловлена отсутствием систематизированных сборников действующего законодательства, с другой — в условиях частой смены выборных членов местных учреждений (а таких было большинство) и их недостаточно высокой правовой грамотности требовалось регулярно напоминать о нормах действующего права, от Тверского наместнического правления напоминания поступали в города в форме указов.
Екатерина II не планировала предоставить структурам местного управления право издавать законы и вводить налоги, более того, она не могла и не должна была допустить этого. Прежде чем давать столь большие права органам местной власти и управления, нужно было создать местные гражданские общества, региональную элиту, изменить правовое сознание населения, воспитать в нем уважение к личности, чужой собственности. Сама реформа управления, вводимая Учреждениями о губерниях, должна была стать лишь первым шагом на пути решения этих задач.
Создание большого числа местных учреждений при наличии у дворян права выбора, где жить и чему отдать свои жизненные силы и энергию, способствовало притоку в губернские центры, малые российские города и их округа значительного числа представителей этого класса. Они составили основу будущей правящей элиты регионов, к которой примыкало мелкое чиновничество, а также выборные должностные лица из купечества и мещанства, духовенства. В силу обстоятельств все они должны были вступать в контакты для решения местных проблем. Фор- мирование группы правящей элиты в регионах России, несомненно, способствовало развитию каждого из них. И в каждом из регионов России эта группа имела всесословный характер.
Еще одно важнейшее направление реформы местного управления Екатерины II — формирование предпосылок для создания других сообществ межсословного характера. К числу таковых относятся прежде всего купеческие гильдии, в которые могли входить не только торговцы города, но и выходцы из других городов, крестьяне и даже дворяне22
Особого внимания заслуживают городские общества, ставшие своеобразной школой зарождающейся местной элиты. Предоставив горожанам возможность составлять городские общества, Екатерина не предписала жестко, каким должен быть их состав. В соответствии с рядом статей Жалованной грамоты и других ее указов, города, хотя и медленно, но начали расширять состав членов городских обществ23. Первым шагом на пути к этому было выделение в составе городского населения категории «настоящих городовых обывателей», в которую включались все владельцы недвижимого имущества в черте города, включая крестьян, дворян, военнослужащих и гражданских чиновников, приезжих из других городов, иностранцев. Эта группа населения имела в городской думе своего представителя, а иногда и нескольких.
Складыванию и упрочению положения этой межсословной категории горожан способствовала перестройка городов, в ходе которой постепенно ликвидировалось прежде существовавшее расселение по профессионально-тягловому принципу (сотни, слободы). Новое городское деление на части и кварталы, осуществление выборов в городские думы от частей города постепенно приводили к стиранию граней между представителями разных сословий. Процесс этот шел медленно. В Нижнем Новгороде в 1786 г. дворяне и разночинцы, которым принадлежало примерно 25 % всех дворов города, отстранились от участия в выборах на городские должности. Однако в 1795 г. они принимали участие в выборах, и лишь один из 5 выбранных отказался от исполнения должности гласного думы, считая это неприличным для себя24 В городах Тверской губернии зарож- дение даже самого принципа представительства от городских частей относится к XIX в., при этом выбранными в думу в этот период оказывались все-таки купцы и мещане. Однако в тверских городах еще при жизни Екатерины II в компетенцию городничих перешло заведование земельным фондом. Территориальное единство городских земель было необходимым условием на пути становления городских всесословных сообществ25. Создавая это территориальное единство необходимо было передать земельный фонд из ведения общества купцов и мещан должностному лицу, представлявшему интересы всех горожан.
Формированию всесословных городских обществ в значительной мере способствовало изменение принципов налогообложения в пользу города. Разрешение оставлять на городские нужды 0,25 % от суммы объявленных купеческих капиталов создавало заинтересованность города в притоке капиталов, в том числе крестьянских и жителей других городов, облегчало причисление тех и других в городское купечество. Постепенно вводилось поземельное налогообложение по размерам участков, на которых располагались постройки горожан, а позднее — с учетом стоимости недвижимости. Сборы должны были собираться со всех жителей города, включая дворян. В разных местностях этот процесс шел по-разному. В Великих Луках, испытавших существенное влияние Западной Европы, поземельный налог известен с 1793 г.26, в городах Тверской губернии — с начала XIX в. Сбор со стоимости имущества в г. Твери известен с начала 20-х гг. XIX в., а в Великих Луках оценка имущества была завершена лишь в 1831 г. Ввести налог с имущества удавалось далеко не везде27, там, где это происходило, развитие новых городских обществ, всесословных по своему характеру, осуществлялось гораздо быстрее.
Собираемые с горожан средства шли на ремонт дорог, мостов, содержание полиции, всего того, что необходимо было для благоустройства жизни горожан всех сословий. Однако еще до введения налога с имущества в большинстве городов удавалось привлечь жителей, включая дворян, ямщиков к содержанию полиции, выполнению постойной повинности, благоустройству дорог. В контексте наше- го рассмотрения важно подчеркнуть, что перемены в налогообложении и успехи формирования всесословных городских обществ, относящиеся в основном к XIX в., были в значительной мере предопределены преобразованиями Екатерины II, в частности тем, что распорядителем земельного фонда в ходе реформы управления становились городничие, являвшиеся представителями коронной власти. Передача им этой сферы деятельности должна была вести к преодолению «дискретного характера» городов, формированию территориального единства городских земель, которое в свою очередь, «являлось географической основой социального процесса — образования городского общества как совокупности лиц различных сословий, имеющих оседлость и недвижимость в пределах города»28 Это являлось логичным развитием концепции устройства городов, заимствованной из германского права (что вполне естественно для Екатерины), когда сообщество жителей города составляют все владельцы земли. Это важнейший шаг на пути создания городских всесословных обществ и сплочения горожан в интересах благоустройства и охраны правопорядка.
Представители создававшихся межсословных групп городского населения должны были входить в общую городскую думу и думу шестигласную, меньшую по составу. В деятельности этих структур воплощались коммуникативная и организаторская, стратегическая и интегративная функции формирующийся элиты городов. Одновременно участие в работе выборных органов являлось школой правовой и политической культуры для некоторой части горожан. К сожалению, в документах городских учреждений Тверской губернии первой половины XIX в. не находится свидетельств совместной деятельности представителей разных сословий, однако мы видим эту деятельность при изучении документов «комитетов для уравнения городских повинностей», куда наряду с купечеством входили и дворяне, владевшие в городе недвижимостью, а также разного рода комиссий, активно создававшихся и действовавших в период царствования Александра I. Как известно, вступив на трон, Александр сделал заявление, что будет править «по законам и по сердцу бабки своей — Екатерины Великой». Эта ссылка позволяет проецировать неко- торые начинания Александра на царствование Екатерины и лучше понимать деятельность каждого из этих двух правителей, объединенных не только кровным родством, но родством по духу. Деятельность учрежденных Александром комиссий по раскладке земских повинностей, квартирных комиссий, где решался вопрос об отбывании населением постойной повинности, которую должны были выполнять (обычно в денежной форме) даже дворяне29, организационные меры по созданию хлебных запасов на случай неурожая — все это сплачивало представителей разных сословий и в конечном итоге способствовало развитию региона. Это развивало идеи Екатерины, адаптируя их к условиям нового XIX в., реально существовавшим взаимоотношениям представителей разных сословий.
Таким образом, реформы Екатерины II, направленные на децентрализацию управления, одновременно решали задачу консолидации населения как в рамках каждого отдельного города, так и в границах губернии, закладывали основы формирования сообществ по различным признакам, в том числе и всесословных, а также региональной элиты, без которой невозможно эффективное функционирование региона в качестве субъекта. Именно в этом, на наш взгляд, состояли цель и сверхзадача реформ, проводимых Екатериной Великой.
Список литературы Региональная политика Екатерины Великой
- ПСЗ-1. Т. XVI. № 12137.
- Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа. М., 2001. С. 389.
- Иловайский Д.М. Граф Яков Сивере: Биографический очерк // Русский Вестник. 1865. Т. 55. № 1. С. 31.
- ПСЗ. Т. XVI. № 12137.
- ПСЗ-1. Т. XX. № 14392.