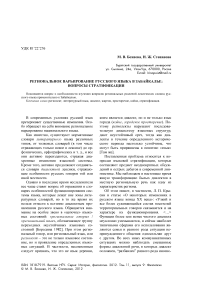Региональное варьирование русского языка в забайкалье: вопросы стратификации
Автор: Бохиева Марина Викторовна, Степанова Ирина Жамсарановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Системные отношения на разных уровнях языка: опыт описания подсистем
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Поднимается вопрос о необходимости изучения вопросов региональных различий лексических единиц русскогоязыка применительно к Забайкалью.
Региолект, литературный язык, диалект, жаргон, просторечие, койне, стратификация
Короткий адрес: https://sciup.org/14737938
IDR: 14737938 | УДК: 81’22’276
Текст научной статьи Региональное варьирование русского языка в забайкалье: вопросы стратификации
В современных условиях русский язык претерпевает существенные изменения. Особо обращает на себя внимание региональное варьирование национального языка.
Как известно, существуют нормативные словари литературного языка различных типов, от толковых словарей (в том числе отражающих только новое в лексике) до орфоэпических, орфографических и т. д., и все они активно переиздаются, отражая диа-хронные изменения языковой системы. Кроме того, активно продолжают создаваться словари диалектной лексики, отражающие особенности русских говоров той или иной местности.
Однако в последнее время исследователи все чаще ставят вопрос об отражении в словарях особенностей функционирования системы языка, которые лежат вне зоны литературных словарей, но в то же время их нельзя отнести к истинно диалектным проявлениям русского языка. Обращается внимание на особое звено в «цепочке» языковых состояний: «региональные говоры» / «региональный язык», обозначающее группу переходных неустойчивых языковых состояний [Бородина 1982]. При этом региональный говор, или региональный язык, или региолект – это не только языковое состояние, но и проявление определенных языковых ситуаций. В частности, несомненным следует признать, что это не язык деревни, коим является диалект, но и не только язык города (койне, городское просторечие). Поэтому региолекты нарушают последовательную диасистему языковых структур, дают неустойчивый срез, тогда как диалекты в течение определенного исторического периода настолько устойчивы, что могут быть приравнены к понятию «язык» [Там же].
Поставленная проблема относится к вопросам языковой стратификации, которые составляют предмет неоднократных обсуждений и острых дебатов в современной лингвистике. Мы наблюдаем в настоящее время явную трансформацию былых диалектов в местную региональную речь как одну из характеристик региона.
Об этом пишет, в частности, Л. П. Кры-син в статье «О некоторых изменениях в русском языке конца XX века»: «Узкий и все более суживающийся состав носителей территориальных говоров сказывается и на характере их функционирования. <…> Функции более или менее чистого диалекта неуклонно уменьшаются, и сейчас наиболее типичными сферами его использования являются семья и разного рода ситуации непринужденного общения односельчан друг с другом. Во всех иных коммуникативных ситуациях можно наблюдать смешанные формы диалектной речи, в которых диалект осложнен, “разбавлен” разного рода иносис-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © М. В. Бохиева, И. Ж. Степанова, 2012
темными элементами – например, словами и синтаксическими конструкциями литературного языка, городского просторечия (так наз. “ полудиалектная речь ”, о которой диалектологи писали уже тридцать лет назад, – см., например, [Коготкова, 1970; Орлов, 1968]). <…> А. С. Герд ввел в научный оборот термин “ региолект ”, под которым он имеет в виду “особый переходный тип между диалектом, наречием, с одной стороны, и просторечием, жаргоном, с другой… Регио-лект охватывает ареал ряда смежных диалектов, но ярче всего он представлен в городах и поселках городского типа”» [Крысин, 2000].
Региональный язык изучен значительно меньше, чем диалектный. В течение длительного времени литературный язык противопоставлялся только диалектному; соотношение «литературный язык – региональный язык» возникло не так давно, хотя все исследователи диалектов сталкивались с проблемой разграничения лингвистического материала не только по оппозиции «литературный – диалектный язык». Если внимательно рассмотреть диалектные словари с этой точки зрения, обнаруживается достаточно большое количество включений в объект исследования не только диалектов, но и явных элементов регионального языка. В настоящее время, когда мы наблюдаем нивелирование диалектов, на их месте видим развитие региолектов. Таким образом, возможно, сейчас литературный язык уже не противопоставлен диалектам, он противопоставлен региональным языкам, или региональным говорам, или региолектам, или региональным литературным языкам.
Разнобой в терминологии вызван различием мнений по поводу данного явления. Термин «регионализм» требует соотнесения его с терминами полудиалект , койне , городское просторечие , региональные варианты литературного языка , социолект .
Начнем с термина региональный вариант литературного языка. Известно, что существует два мнения о региональном варьировании русского литературного языка. В. В. Виноградов, В. Х. Орлов, Ф. П. Филин, Б. Н. Головин отрицали саму возможность варьирования литературного языка на различных территориях: единство и строгая нормализация литературного языка есть его непременные признаки, и признание территориального варьирования означает разру- шение этих признаков, а следовательно, и самого литературного языка. Но еще в XIX в. исследователи отмечали, что устноразговорный литературный язык является единым, но вместе с тем сложным и варьирующимся на огромной территории (А. И. Томсон); ученые обращали внимание на то, что необходимо изучать русский язык в пространственной проекции (И. И. Срезневский); что язык образованной части населения неоднороден в разных местностях и содержит некоторые черты местного своеобразия в соединении с говором Москвы (А. М. Соболевский, А. А. Шахматов, Ф. Е. Корш). В. А. Богородицкий говорил о том, что живой литературный язык «в разных местностях нашего Союза» не является одинаковым, но представляет некоторые различия, отражающие в ослабленном виде особенности местных народных говоров.
Теоретическое обоснование принципиальной возможности регионального варьирования русского литературного языка сделал Р. Р. Гельгардт. Он объясняет условия такого варьирования причинами экстралин-гвистическими – «обширность и прерывность территории распространения языка затрудняют и даже исключают постоянные связи между всеми членами данного национально-языкового коллектива», а также собственно лингвистическими – «природа разговорного стиля», «разговорный язык города». Р. Р. Гельгардт считает, что взаимодействие литературного языка и говоров «не привело к возникновению новой языковой единицы, отличной от системы языка литературного, но <...> вызвало в отдельных моментах сближение литературного языка и областных диалектов, способствуя этим появлению местных вариантов русского литературного языка». Он же говорит о возможности варьирования не только на фонетическом уровне, но и на грамматическом и лексическом: «В разговорную речь образованных людей иногда при определенной ситуации проникают отдельные явления грамматики, а особенно лексики местных народных говоров» [Гельгардт, 1959] (цит. по: [Торохова, 2005. С. 4]).
В лингвистике наблюдается терминологический разнобой в обозначении понятия территориальное варьирование литературного языка. Варьирование литературного языка в географической проекции называют территориальной разновидностью литературного языка (Р. Р. Гельгардт, К. И. Чуркина, Н. С. Сергиева и др.), региональной разновидностью литературного языка (О. А. Лаптева, М. Д. Харламова), региональным вариантом литературного языка (Л. П. Крысин, Г. С. Щур, Э. Г. Туманян, Т. С. Коготкова, О. Д. Крыжановская, О. Д. Матвеева и др.), локальной разновидностью литературного языка (Т. И. Ерофеева, М. В. Панов, Л. П. Крысин). Данные термины во многом тождественны, однако некоторые ученые их значения дифференцируют. Так, Л. П. Крысин термин региональное варьирование употребляет применительно к функционированию русского языка в инонациональной среде, а для обозначения вариативности языка на территории его исконного распространения обычно использует термины территориальное или локальное варьирование [Крысин 1979. С. 9].
Однако, по мнению ряда современных ученых, отнесение к региолекту региональных вариантов только литературного языка сужает понятие. Региолект и региональный вариант литературного языка состоят в родо-видовых отношениях, при этом региональный вариант литературного языка, на наш взгляд, должен составлять ядро региональной языковой системы, как литературный язык составляет ядро общенационального языка. Кроме того, возможно, требуют разграничения термины варианты литературных слов и регионализмы . При этом очерченность границ региона изучения лексики совпадает с его политическими границами (например, границами субъектов Российской Федерации) лишь формально.
Так, Е. А. Торохова выделяет следующие отличия региолекта от регионального варианта литературного языка:
-
• региолект - форма устной речи, которая трактуется по-разному: интердиалект (А. С. Герд), диалект (В. Н. Шапошников), полудиалект (А. Д. Швейцер), а региональный вариант - это разновидность литературного языка;
-
• образование региолекта является результатом взаимодействия литературного языка и диалектов, региональный вариант литературного языка охватывает все местные особенности (и диалектные, и иноязычные элементы);
-
• региолект распространен в небольших городах, региональный вариант ЛЯ
функционирует в определенном регионе» [Торохова, 2005. С. 5].
Таким образом, региональная система языка - это исторически сложившаяся совокупность стилистически разнообразных, функционирующих в различных типах речи, взаимосвязанных друг с другом в условных границах выделенного региона языковых единиц.
Т. И. Прокопова (Владивосток) под региональной лексикой понимает несколько составляющих: 1) специальные местные слова ( сопка , чилим , помогайка и др.); 2) региональные значения и их оттенки у некоторых слов и словосочетаний общенационального фонда (расчехляться = платить, лягушатник - охотник за древесными лягушками, « конструкторское бюро » -мастерская, где собирают автомобили из запасных частей, т. е. «конструктов» и др.); 3) известные и в других регионах слова, но имеющие на Дальнем Востоке высокую частотность употребления или словообразовательную активность [2009].
Р. И. Лихтман называет следующие элементы, составляющие русскую речь в разных регионах: «1) общенациональные языковые элементы: а) признанные фактами кодифицированного литературного языка (КЛЯ), б) описываемые как явление разговорной речи, просторечия, широко распространенного в разных регионах; 2) языковые явления, специфические для данного региона и формирующие, очевидно, территориальную разновидность русского (и русского литературного, в частности) языка крупного региона; 3) факты речи, характерные для каждой данной территории внутри региона: а) элементы, проникающие из окружающих диалектов, б) элементы, представляющие собой результат влияния другого языка» [1991].
На наш взгляд, терминологические различия возможно дихотомически представить следующим образом.
Литературный язык - региолект . Основание дихотомии - отношение к литературной норме в ее понимании как общеязыковой нормы: региолект - это разговорные элементы, не присущие общерусскому нормированному языку. Например: Голя , -и, ж. Детская игра, которая в других городах называется салками, пятнашками, догонялками; также и ведущий в этой игре. Ты - голя! Догоняй ! Чё , мест. Что. Чё делаешь сегодня ?
Волосогрыʹзка , -и, ж. Большой жук с длинными усами, особенно активен в июне. (Жук-стриж; Большой черный еловый усач). Ой , волосогрызка на тебя села! Скинь! мерзкие жуки! Особенно если в белом по улице идешь , то атаковать начинают – на светлое летят. Чеплашка , -и, ж. Небольшая миска, чашка, блюдце и любая подобная бытовая посуда. Недавно вот хотели угостить кое-чем , но сказали , чтобы со своей чеплашкой приходил . Коту в чеплашку молока налей . Мастерка , -и, ж. Верхняя часть спортивного костюма, обычно на замке-молнии. Мастерку вон надень , на вешалке висит , прохладно уже. Выжигалы , мн. Детская игра, целью которой является попасть мячом в наибольшее количество игроков противоположной команды («выжечь» их). – Где твой? – А вон опять толпой в выжигалы носятся , вчера синяк мячом получил . Пинка , -и, ж. Английская булавка (булавка c запирающимся острием). Юбка расстегнулась - заколи ее пинкой. Отымалка , -и, ж. Кухонная тряпка для прихватывания горячей кастрюли, сковороды и пр. Отымалка – прихватка из тряпки , которая у каждой хозяйки на кухне имеется . Моя бабушка говорила всегда: «Не ходи как отымалка , надень что-нибудь чистое , что , нету , что ли , нормального!»
На наш взгляд, подобные элементы и составляют большее количество лексем, которые следует называть региональными.
Диалект - региолект. Общим для них является территориальная ограниченность употребления, но отличие в том, что диалект – более речь деревни, а региолект – более речь города и поселков; кроме того, диалектная речь не является социально сниженной, в то время как региолект в этом отношении гораздо ближе к литературной разговорной речи и социальным жаргонам, т. е. сниженным пластам лексики. Поэтому, на наш взгляд, пересечения лексики этих пластов не наблюдается, налицо использование диалектных слов как вкраплений во всех уровневых проявлениях. Например: Дежа, -и, ж. Продолговатый сосуд из оцинкованного железа для стирки белья и для других домашних надобностей. Сегодня она белье в деже замочила. Донышко, -а, ср. Разделочная доска. Не режь хлеб на скатерти: возьми донышко. Вехотка, -и, ж. Мочалка. В бане висит вехотка, которой я моюсь. Ср.: «Ретивый лексикограф-пурист, считающий лишь свой язык нормативным, теоретически может пролоббировать закон, под угрозой штрафа запрещающий сибирякам мыться вехоткой, а москвичам пользоваться на бульваре лавочками» [Беликов, 2004. С. 35].
Жаргон - региолект . Здесь мы имеем в виду широкое понимание термина: жаргонные явления, которые нередко называют «общим жаргоном», т. е. не имеющим территориальной локализации, хотя, разумеется, далее он членится на самые различные виды профессиональных и социальных жаргонов. «Общий жаргон – промежуточное языковое образование, через которое лексика социальных диалектов проникает не только в просторечие, но и в разговорный язык в целом. По определению авторов “Словаря общего жаргона” 1, это “тот пласт современного жаргона, который, не являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотностью встречается в языке средств массовой информации и употребляется (или, по крайней мере, понимается) всеми жителями большого города, в частности образованными носителями русского литературного языка”» (цит. по: [Хорошева, 2002. С. 1]). Л. П. Кры-син видит причину формирования общего жаргона в том, что многие жаргонные элементы становятся хорошо известными и употребительными в разных социальных группах носителей русского языка [2008. С. 18].
В таком понимании региолект противопоставляется жаргону по территориальной локализованности, однако, на наш взгляд, в этом случае наблюдается малое число региональных жаргонизмов при преобладании общерусских социальных и профессиональных, т. е. эти пласты также не должны обнаруживать явных пересечений. Например, жаргонизмы: Кося́ к, -á, м. Из общего жаргона. Ошибка. На этот раз косяк был с нашей стороны. В следующий раз мы обещаем все исправить. Дрова, дров, м. Из жаргона компьютерщиков. Драйверы для установки компьютерных программ. Мне нужны дрова для Windows XP. Студень, -ня, м. Из сту-денч. жаргона. Студенческий билет. На первом курсе нам выдали студень каждому, можно стало книги в библиотеке брать; Весло, -а, ср. Из уголовн. жаргона. Ложка. Принеси весло, обед уже готов, что, суп вилками будем есть?, и др. Моросить, -ю, -ишь. Из молодежн. жаргона. 1. Недопонимать что-то или кого-то. Не мороси, ты прекрасно знаешь, о чем идет речь. 2. Медлить, не успевать. - Нам нужно быстрее бежать, а ты, как всегда, моросишь! Поезд тебя ждать не будет. - все эти лексемы нельзя назвать только региональными.
Просторечие - региолект . Оба понятия отвечают основанию «не норма по отношению к литературному языку», но региолект опять же отличается локализованностью по территории распространения. Кроме того, вторым признаком просторечия является его явная сниженность, «грубость» по отношению к литературной норме, а региолект не предполагает выделения только по признаку сниженности, по крайней мере, этот признак не является для него определяющим. Например, просторечия: Бухать , -ю, -ешь. Разг., фам. Пьянствовать, пить водку. Сов. Забухать -ю, -ешь. Петька наш опять бухает , каждый день пьяный домой приходит . Гнать , -‘ю, -ишь. Врать. Не гони мне лучше , я все равно узнаю правду . Закуска , -и, ж. Кафе, столовая. Мы решили заехать в закуску, пообедать. Зы1рить , -ю, -ишь. Смотреть с напряжением, не отрываясь. Хватит зы-рить в их сторону , глаза сломаешь! Ку-курки , -ок, на кукурках. Положение, в котором человек сидит на носках, согнув ноги в коленях (то же, что на корточках). Он сидел у реки на кукурках , мыл руки в воде.
Исконно русские слова - заимствования (заимствованные слова, обусловленные региональным соседством языков, и русские слова, образованные на основе таких заимствований). В нашем регионе это общеизвестные всем носителям русского языка буря-тизмы, монголизмы, возможно, и китаизмы, и производные от них. Например: Дарханка , -у, ж. (разг., заим. из бур.). Теплая шапка с мехом. Дарханка теплая , голова зимой не замерзнет. Хама угэ [хамауг‘э], неизм. Безразличное, безучастное отношение к кому / чему-нибудь. Мне хама угэ , делайте так , как считаете нужным.
Таким образом, мы наблюдаем невозможность выделения только региональных слов в «чистом виде», в это понятие войдут все указанные выше: разграничение регио- лекта и выделенных выше терминов представляет трудность потому, что региональные явления пронизывают каждый пласт рассмотренной лексики, они есть и в литературном языке (тогда это местные варианты литературного языка), и в жаргоне, и в просторечии. Диалектные же явления лежат, как правило, в основе всех указанных различий. Однако это не говорит о том, что к региональной лексике следует отнести «все, что не входит в литературный язык» в данном регионе. Как видим, проблема требует дальнейшего осмысления.
Возможны различные классификации ре-гионализмов Бурятии.
В частности, требует разработки уровневая стратификация регионализмов: фонетические, акцентологические, семантические, грамматические единицы языка в их сопоставлении с литературными, нормативными единицами:
-
• фонетическим регионализмом, например, следует считать произношение «что» как чо (сибирское): Чо делаешь сегодня? ;
-
• акцентологическим вариантом литературно-словарного «лама» - произношение лама (буддийский служитель);
-
• семантические отличия (семантика, отличная от литературного слова) - в таких примерах, как Кушетка , - и, ж. В медицинских учреждениях: железная обитая клеенкой жесткая кровать, с приподнимающимся изголовьем. Обувь снимайте , ложитесь на кушетку , будем смотреть живот (медработник пациенту) (ср. толкование по «Словарю русского языка» С. И. Ожегова - «небольшой диван с изголовьем, но без спинки»); Жарёха - свежее мясо, пожаренное в большом количестве. Когда вот пасха , то обязательно , чтоб крашеные яйца были , и чтобы жарёха была , мяса наесться вволю. У бабушки в деревне , когда поросёнка резали осенью , всех знакомых и родственников приглашали на «жарёху». Все наедались мяса от пуза! (ср. в других регионах «жарёха» - как правило, жареные грибы или головки конопли);
-
• грамматическое отличие есть в формах типа В курсах (разг., сниж.). Употребляется в значении «в курсе». - А ты в курсах , что Аня в Турцию поехала ?, Сло-виться . Увидеться, придя куда-нибудь. То же, что встретиться. Завтра словимся в три часа на Арбате? (название пешеходного
отрезка центральной улицы в Улан-Удэ), Мы так с тобой давно не виделись! Может , словимся на выходных? , Словимся в универе – надо отдать тебе флешку .
При изучении региональной системы языка центральным аспектом, на наш взгляд, является изучение лексических ре-гионализмов. Основаниями для их стратификации могут быть следующие.
Во-первых, деление регионализмов по принадлежности к активному или пассивному запасу лексики. Например, в Бурятии широко распространенными, входящими в активный словарный запас любого среднего носителя языка следует признать лексемы: Шара , -ы, ж. в значении ‘остатки от заварки чая’, Копару́ лька , -и, ж. в значении ‘небольшая лопатка, обычно деревянная, для поиска картошки в земле при копке’.
Следует также выделить слова, ушедшие в пассивный запас: ушли в прошлое, например, деления городских молодежных группировок на хунхузов , брусков , партизанских , чав , чанок и т. п.
Во-вторых, возможно деление по происхождению (источнику): заимствованными в нашем регионе являются слово Позы , поз, обычно мн., ед. поза , -ы, ж. (из бурятского «буузы»); устойчивое выражение Хама угэ , выражающее безразличие, безучастное отношение к кому-чему-нибудь; эвенкийские географические названия, особенно на севере Бурятии ( Курумкан , Ангаракан , Улюнхан ), и пр.
Достаточно большое количество лексики имеет явно жаргонное происхождение, и разграничение жаргонизмов и возникших на их основе регионализмов – отдельная проблема.
В-третьих, наблюдаются различия в стилистической окрашенности лексем: те же Позы . Нейтр. Национальное кушанье бурят и монголов; мясной фарш, определенным образом закрученный в небольшую тонкую лепешку из теста и вареный на пару. Головары , -а, м. Обычно мн., ед. головар , -а, м. Уничижит. и пренебрежит. Названия не очень образованных выходцев, как правило, из бурятских деревень; Шуману́ ть , -ну, -нешь. Разг., сниж. Позвонить кому-либо; и пр.
Таким образом, налицо необходимость разработки проблемы регионального варьи- рования единиц русского языка в применении к нашему региону и в первую очередь их классификации.
REGIONAL STRATIFICATION ON VOCABULARY