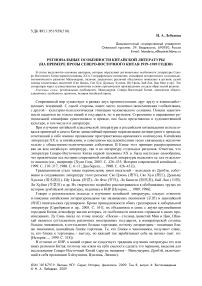Региональные особенности китайской литературы (на примере прозы Северо-Восточного Китая 1919-1949 годов)
Автор: Лебедева Наталья Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье выделяются основные критерии, которые определяют региональные особенности литературы Северо-Восточного Китая первой половины ХХ в. Географическое положение, специфика исторического и социально-экономического развития Маньчжурии, наличие диалектных различий обусловили появление в регионе целой плеяды талантливых писателей (Сяо Цзюнь, Сяо Хун, Дуаньму Хунлян, Шу Цюнь, Бай Лан, Цао Мин и др.). Эти литераторы через художественные хронотопы в своих прозаических произведениях создали образ малой родины.
История архитектуры, традиционная культура китая, искусство стран дальнего востока
Короткий адрес: https://sciup.org/14737103
IDR: 14737103 | УДК: 72.03
Текст научной статьи Региональные особенности китайской литературы (на примере прозы Северо-Восточного Китая 1919-1949 годов)
Современный мир существует в рамках двух противостоящих друг другу и взаимодействующих тенденций. С одной стороны, имеет место политико-экономическая глобализация, с другой - культурно-психологическая этнизация человеческого сознания. Поиски идентичности касаются не только наций и государств, но и регионов. Стремление к выражению региональной специфики существовало и прежде, оно было представлено в художественной культуре, в том числе и в литературе.
При изучении китайской классической литературы в российском китаеведении использовался принятый в самом Китае династийный принцип периодизации литературного процесса, сочетавший в себе именно проявление пространственно-временного континуума. Китайская литература ХХ в. и китайскими, и советскими исследователями тесно связывалась исключительно с общественно-политическими событиями. В Китае этот принцип распространялся как на всю китайскую литературу, так и на литературу отдельных регионов. Отметим, что литература Северо-Восточного Китая первой половины ХХ в. была настолько своеобразна, что практически все истории современной китайской литературы выделяют ее для отдельного анализа (см., например: [Хуан Сюи, 2003. С. 426-435; История современной китайской..., 1999. С. 310-317; 1988. С. 6-11; Два берега..., 1988. С. 426-431]).
Традиционным стало также перечисление имен писателей - выходцев из Дунбэя, собственно и создававших литературу этого региона: Сяо Цзюнь ( 萧军 ), Сяо Хун ( 萧红 ), Дуаньму Хунлян ( ^ЖЖЙ ), Шу Цюнь ( ^^ ), Ло Фэн ( ^Д ), Ло Бинцзи ( ^Шй ), Бай Лан ( Й№ ), Ли Хуйин ( ЖЖ^ ) и др. Их творчество подробно рассматривается в обобщающих трудах по истории дунбэйской литературы, изданных в КНР [История..., 1989; 1996].
Говоря о региональном подходе к изучению китайской литературы, следует отметить и описание китайскими литературоведами так называемых пекинской ( ЖЖ ) и шанхайской ( ЖЖ ) писательских группировок. Кроме принадлежности обеих группировок к либеральной литературе [Серебряков и др., 2005. С. 161], их объединяла и связь с двумя крупнейшими городами Китая, атмосферу жизни которых, ее особенности писатели отражали в своих произведениях. Лу Синь писал по этому поводу: «Пекин - столица династий Мин и Цин, Шанхай является сеттльментом различных иностранных государств, в императорской столице больше чиновников, в сеттльменте больше торговцев, поэтому литераторам - пекинцам ближе чиновники, шанхайцам ближе торговцы. Те, кто ближе к чиновникам, получают славу, те, кто ближе к торговцам, - выгоду, но каждый так зарабатывает себе на жизнь» (цит. по: [История..., 1999. C. 318]).
В отличие от КНР, в нашей стране не существует традиции изучения литературы тех или иных регионов Китая, поэтому мы взяли на себя смелость сделать это первыми, выделив для исследования Северо-Восточный Китай (другие названия - Маньчжурия, Дунбэй, включающий в себя провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 4: Востоковедение © Н. А. Лебедева, 2009
Необходимо уточнить, что, говоря о региональной литературе, мы имеем в виду обладающую ярко выраженными региональными особенностями национальную китайскую литературу, в которой соединяющей скрепой является общий для литератур разных регионов язык, на котором создается литература, – китайский язык
В последнее десятилетие в КНР набирает силу процесс самоидентификации провинций, который основывается на существующих между ними культурно-исторических различиях. Каждая провинция стремится продемонстрировать присущие ей специфические достижения. Открываются музеи, реставрируются исторические памятники, проводятся исследования в области краеведения, создаются художественные произведения, посвященные выдающимся событиям и людям провинции. Государство создает проекты регионального развития экономики, в числе которых заметное место занимает Проект возрождения Северо-Востока Китая, обнародованный 2 августа 2007 г.
Процесс самоидентификации провинций затрагивает политическую проблему взаимоотношений центра и регионов. В Китае всегда были сильны представления о том, что дезинтеграция или отсутствие единства и хаос опасны для центральной власти. Но история показала, что хаос может наступить и в результате усилий центра и по его повелению, как это случилось в годы «культурной революции» [Lary, 1997. P. 184]. И напротив, отсутствие сильного политического контроля со стороны центра необязательно приводит к упадку страны. Так, династия Сун (X–XIII вв.) с точки зрения степени политического контроля едва ли может быть отнесена к сильным династиям, однако именно этот период вошел в историю Китая как очень плодотворный в развитии художественной культуры и философии. То же можно сказать о 20–30-х гг. XX в., когда в стране не было сильного центрального правительства, а национальная культура явила миру замечательные и разнообразные достижения.
Кроме проблемы взаимоотношения регионов и центра, изучаемый нами вопрос важен с точки зрения определения национальной идентичности. Как считают исследователи, именно «локальное» и «региональное» сейчас рассматриваются как более предпочтительные категории для определения культурной идентичности по сравнению с категориями «нация» и «государство» [Oakes, 2000. P. 670]. Определение места регионального в национальном становится актуальной проблемой современного мира, рассматриваемой с различных сторон.
Очевидно, что при изучении мировой культуры методологической основой должна служить диалектика общего, единичного и особенного, поскольку конкретизация общих для всего человечества черт культуры происходит в национально специфических вариациях культуры каждого региона. Художественная культура должна быть рассмотрена как особенное на пути от культуры в ее целостном бытии искусства к уникальному предмету культуры. Тогда, обратившись к конкретному изучению национальных образов единого мира и оперируя названными выше философскими категориями, мы заметим, что цивилизация – это общее, культура – единичное, интернациональное – это общее, национальное – единичное. Локальное, региональное в этой системе координат занимает место особенного, сочетающего в себе элементы интернационального и национального (см.: [Гачев, 1995; 1998]).
Касаясь методики определения особенного, в данном контексте – региональной специфики, стоит обратить внимание на замечание В. В. Набокова: «Немало скороспелых похвал порождено было местным колоритом, а местный колорит быстро выцветает. Я никогда не разделял мнения тех, кому нравятся книги только за то, что они написаны на диалекте, или за то, что действие в них происходит в экзотических странах» [Набоков, 1999. C. 52]. Таким образом, следует избегать опасности увлечения внешним, несущественным, стремиться найти сущностные проявления своеобразия региона. При этом категорию «регион» определим как «область, район, часть страны, отличающуюся от других областей совокупностью естественных и исторически сложившихся, относительно устойчивых экономико-географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями национального состава населения» [Гладких, Чистобаев, 2000. С. 22].
Г. Д. Гачев среди определяющих специфику факторов первым называл природу, которая формирует и последующий род труда, и образ мира. Он писал: «Национальный образ мира есть диктат национальной природы в культуре» [Гачев, 1995. С. 24]. Именно здесь, в земле, в почве, в широком смысле этого слова, коренится и образный мир литературы. В этой связи интересно проследить некоторые исторические параллели.
В античной мифологии существовало понятие genius loci (гений места), под которым подразумевался дух – покровитель данной местности, который изображался в виде змея. В те времена каждый человек, семья, дом, город, даже народ, вместе взятый, имел таких покровителей. Особо отметим, что гений места осуществлял связь интеллектуальных, духовных, эмоциональных проявлений человеческой личности со средой его обитания.
В китайской традиции также есть сопоставимое понятие « туди шэнь » ( 土地神 ) (дух земли), тесно связанное с культом земли. До сих пор в некоторых районах сохранился древний праздник – день рождения духа земли ( 社日 ). Через божество Хоу–ту осуществлялась связь с культом почитания «духа земли» [Ткаченко, 1999. C. 125–126]. Культ Хоу–ту имел широкое распространение на разных уровнях социальной лестницы и в разных местностях. Он не был связан с образом конкретного божественного персонажа, являясь скорее сакрализацией самой стихии земли и ее плодоносности [Кравцова, 1999. C. 138].
По мере развития и укрепления государственности в Китае духи-покровители местности все больше связывались с идеей государственной власти и выдающимися чиновниками – уроженцами данных мест. Появились чэн-хуаны ( 城皇 ), божественные двойники правителей административных территорий, которые должны были оберегать данную местность. В эпоху Тан (VII–X вв.) им в помощь были приданы туди-гуны ( 土地宫 ), локальные божества – администраторы [Малявин, 2000. C. 232–233].
Итак, китайское божество местности, являясь таким же охранителем и защитником, как и у античных народов, и изначально неся в себе всю животворную потенцию Матери-земли, подверглось модификации со стороны рационального конфуцианства и со временем стало выступать в большей степени функционером государства, нежели вдохновителем художественного творчества.
Однако это не помешало китайской культуре на протяжении всей истории своего существования развивать и усиливать региональное своеобразие. Академик В. М. Алексеев отмечал, что «китайская культура, как и всякая другая, слагалась из наслоения очень многих культур, как национальных местных, так и иноземных, хотя основы ее… почти исключительно национального, китайского же происхождения» [1958. C. 190]. Следовательно, при доминирующей роли ханьской культуры китайская культура никогда не была целостной, она являла собой объединение большого числа региональных культур, появление которых было вызвано причинами естественного, социального и исторического характера.
Факторы, стимулирующие региональную разобщенность, являются культурологической универсалией. Если уточнить это суждение на примере Северо-Восточного Китая, то следует выделить следующие позиции:
-
1) географическое положение;
-
2) плотность населения;
-
3) структура экономики и способ производства;
-
4) межнациональные, языковые и диалектические различия;
-
5) специфика быта и психологии людей, социально-семейный уклад.
В самом деле, в регионе постоянно имело место присутствие и столкновение английских, японских и российских интересов, что было связано со стратегическими и экономическими выгодами, следовавшими из географического положения Маньчжурии. В конце XIX в. заметно усилилось влияние России. Однако после окончания русско-японской войны 1904–1905 гг. позиции России в этом регионе были поколеблены, а Маньчжурия поделена на сферы влияния: Север находился под влиянием России, Юг – Японии.
Кроме того, наличие общей границы с Россией и Кореей, близость Японии и Монголии позволяют характеризовать Северо-Восточный Китай как маргинальную (переходную) зону с происходящей в ней рубежной коммуникативностью, с которой «тесно ассоциируется понятие рубежной энергетики. Принято считать, что именно маргинальные зоны несовпадающих природных, экономических, этнокультурных, информационных и других полей служат источником энергетических импульсов. Нетрудно видеть, что рубежная энергетика имеет непосредственное отношение к эмоционально-чувственной сфере и, таким образом, может быть не только стратегическим ресурсом материального развития, но и ресурсом духовного возрождения социума, этноса, государства» [Гладких, Чистобаев, 2000. C. 52]. Являясь мар- гинальной зоной, Северо-Восточный Китай обладал дополнительным специфическим энергетическим потенциалом, который позволял региону успешно отвечать на вызовы времени.
Отмена в 1878 г. всех ограничений на переселение китайцев в Маньчжурию, начало строительства в 1897 г. КВЖД дали импульс новому этапу китайской колонизации региона, особенно его северной части, выходцами из Шаньдуна и Чжили. Промышленное развитие региона было более поздним по сравнению с другими районами страны. Имели место малый удельный вес фабрично-заводского пролетариата и его крайне неравномерное географическое распределение, высокий удельный вес сезонных и временных рабочих, сохранивших связи с деревней, низкий уровень классового самосознания, большой процент женского и детского труда в обрабатывающей промышленности [История…, 1989. C. 67]. Эти факторы определяли образ жизни, формировали психологический тип жителя этого района.
Процессы по формированию облика региона, происходившие в Дунбэе, имели диалектический характер. При том, что уже к концу XIX в. в Маньчжурии по численности китайское население во много раз превышало аборигенное, преобладал китайский язык, а государственное управление принимало общекитайский характер, культура Северо-Восточного Китая представляла собой сложный конгломерат, в котором переплетались различные национальные традиции: собственно ханьская, маньчжурская, монгольская, корейская, традиции других народностей, населявших Маньчжурию. В начале XX в. регион, как и вся страна, испытывал мощное воздействие культуры Запада. Китайская культура критически перерабатывала и осваивала многочисленные западные философские и эстетические течения. Важное место занимало то влияние, которое оказывала русская культура. Свою роль сыграло строительство КВЖД, исход из революционной России большого числа эмигрантов и связанное с этим появление в Маньчжурии значительной русской колонии .
Исторической особенностью региона явилось то, что в первой половине ХХ в. он стал своего рода испытательным полигоном для всей страны. Здесь начинались некоторые процессы и явления, которые позже распространялись по всему Китаю. Это, во-первых, японская агрессия против китайского народа, начавшаяся на Северо-Востоке в 1931 г., во-вторых, аграрная реформа и восстановление разрушенной промышленности после освобождения региона. Эти обстоятельства во многом определили темы в дунбэйской литературе, которые стали пионерскими для всей китайской литературы новейшего периода: сопротивление японским захватчикам, проведение аграрной реформы, становление в новых условиях рабочего класса. Писатели на этом материале старались показать пробуждение национального самосознания народа, личного достоинства человека, не пожелавшего стать рабом.
Вопросы, которые ставили в своих произведениях литераторы Северо-Востока, близки к проблематике общенациональной литературы «4 мая 1919 г.». Борьба старого и нового в китайском обществе сосредоточилась на критике феодальных и конфуцианских норм во всех сферах жизни: в общественных отношениях, в семье, в образовании, в отношениях между мужчиной и женщиной. Героями произведений новой литературы стал «маленький человек» с его большими проблемами. Крестьяне, ремесленники, рабочие, мелкие чиновники, учителя, рикши, солдаты, женщины и дети заговорили языком дунбэйских деревень, маленьких городков и провинциальных центров, поскольку древнекитайский язык вэньянь уступил свои позиции новому письменному языку, близкому разговорному байхуа.
Отметим, что на формировании эстетического уровня литературных произведений не мог не отразиться распространенный в Дунбэе северный диалект [Софронов, 1979. C. 47, 49], который китайские исследователи именуют северо-восточным диалектом [Краткий словарь…, 1988. C. 1].
Региональная специфика проявлялась в функционировании в литературных произведениях хронотопов, понимаемых, по М. Н. Бахтину, как существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе [Бахтин, 2000. C. 9]. В литературно-художественном хронотопе пространственные и временные приметы сливаются в конкретном целом. Приметы времени раскрываются в пространстве, пространство осмысливается и измеряется временем. Таким образом, воплощение конкретных пространственно-временных реалий, через призму которых автор смотрит на окружающий мир, и является выявлением сущностных региональных особенностей.
Среди основных хронотопов в произведениях писателей Северо-Востока можно выделить следующие.
-
1. Дорога, по которой проходит сражающийся с японцами отряд (роман Сяо Цзюня «Деревня в августе» ( 《八月的乡村》 ).
-
2. Крестьянское поле (повесть Сяо Хун «Поле жизни и смерти» ( 《生死场》 ).
-
3. Хтоническая мощь матери – земли (романы Дуаньму Хунляна «Степь Хорчинского аймака» ( 《科尔沁旗草原》 ) и «Земляное море» ( 《大地的海》 ).
-
4. Три хронотопа – локатива: девственный лес, долина Лангоу и город Наньманьчжан (роман Лян Шаньдина ( 梁山丁 ) «Зеленая долина» ( 《 绿色的谷 》 ).
Во время антияпонской войны многие писатели Северо-Восточного Китая провели некоторое время в освобожденном районе Яньань, где прошли через горнило идеологической обработки и подверглись воздействию эстетической доктрины Мао Цзэдуна. После освобождения Маньчжурии многих из них были направили в родные края проводниками идей КПК для осуществления аграрной реформы. Личное участие в кардинальных переменах, активная жизненная позиция, искренняя вера в коммунистические идеалы, понимаемые как всеобщее равенство и справедливость, литературная одаренность позволили наиболее талантливым из них создать произведения, ставшие в этот период своеобразным знаменем не только литературы Северо-Востока, но и всего нового Китая. К ним можно отнести роман Чжоу Либо ( 周立波 ) «Ураган» ( 《暴风骤雨》 ), повесть Ма Цзя ( 马加 ) «Десять дней в деревне Цзян-шань» ( 《江山村十日》 ), повесть Цао Мин ( 草明 ) «Движущая сила» ( 《原动力》 ).
Другой особенностью можно считать формирование у молодых писателей Северо-Востока под влиянием сложного комплекса взаимодействующих в регионе культур своего собственного, отличного от других арсенала художественных средств. Так, стоит говорить о наличии элементов «потока сознания» и поисках других новых средств в области формы в прозе Сяо Хун и Дуаньму Хунляна, о влиянии романа «Разгром» А. Фадеева и повести «Железный поток» А. Серафимовича на формирование художественного мастерства Сяо Цзюня в построении сюжета, системы образов, способов описания героев и природы. Чжоу Либо в «Урагане» и Цао Мин в «Движущей силе» активно улавливали и использовали творческие импульсы известных им романов «Поднятая целина» М. Шолохова и «Цемент» Ф. Гладкова.
Все перечисленные особенности в совокупности и определили художественное своеобразие прозы Северо-Восточного Китая первой половины ХХ в., которая являла собой художественный синтез общенациональных тенденций и региональных особенностей, обусловленных географическими, этническими, историческими и социально-экономическими факторами развития данного региона.
(BY THE EXAMPLE OF THE NORTH EASTERN CHINA PROSE. 1919–1949)