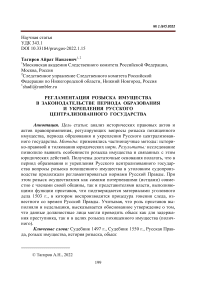Регламентация розыска имущества в законодательстве периода образования и укрепления русского централизованного государства
Автор: Тагиров Айрат Наилевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Трибуна молодого ученого
Статья в выпуске: 1 (67), 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи: анализ исторических правовых актов и актов правоприменения, регулирующих вопросы розыска похищенного имущества, периода образования и укрепления Русского централизованного государства. Методы: применялись частнонаучные методы: историко-правовой и толкования юридических норм. Результаты: исследование позволило выявить особенности розыска имущества и связанных с этим юридических действий. Получены достаточные основания полагать, что в период образования и укрепления Русского централизованного государства вопросы розыска похищенного имущества в уголовном судопроизводстве продолжали регламентироваться нормами Русской Правды. При этом розыск осуществлялся как самими потерпевшими (истцами) совместно с членами своей общины, так и представителями власти, выполняющими функции приставов, что подтверждается материалами уголовного дела 1503 г., в котором воспроизводится процедура гонения следа, известного со времен Русской Правды. Учитывая, что роль приставов выполняли и недельщики, высказывается обоснованное утверждение о том, что данные должностные лица могли проводить обыск как для задержания преступника, так и в целях розыска похищенного имущества (поличного).
Судебник 1497 г, судебник 1550 г, русская правда, розыск имущества, история розыска, обыск
Короткий адрес: https://sciup.org/142233010
IDR: 142233010 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Регламентация розыска имущества в законодательстве периода образования и укрепления русского централизованного государства
В задачи отечественного уголовного законодательства в соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ входит охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности от преступных посягательств. Назначением уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Одним из направлений деятельности правоохранительных органов в этой сфере является восстановление нарушенных преступлением имущественных прав потерпевших и интересов бюджетной системы. Данная деятельность заключается (прежде всего) в наложении ареста на имущество, за счет которого возможно возмещение вреда от преступления. Вместе с тем обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска в целях реального возмещения причиненного ущерба зачастую невозможно без осуществления розыска и установления имущества по уголовным делам.
Для полноценного уяснения сущности розыска имущества необходимо обратиться к истории данного института, в частности к периоду образования Русского централизованного государства (XIV – начало XVI в.).
При великом князе Иване III (1462–1505) процесс централизации Русского государства близился к завершению. В состав Московского государства были включены Великий Новгород (1478) и Тверское княжество (1485). Начиная с Ивана III в России устанавливается самодержавие, первоначально понимаемое как независимость от Золотой Орды, которое, однако, еще не являлось абсолютной монархией. Именно в это время был создан первый общерусский свод законов – Судебник 1497 г. [1, с. 54–62], который в 1550 г. сменил Судебник царя Ивана IV [1, с. 97–120].
Изучение Судебника 1497 г. показало, что в нем регламентированы отдельные вопросы возмещения ущерба, причиненного преступлением, и процессуальных издержек. Например, согласно ст. 8 и 11 лицо, признанное виновным в совершении воровства («татьбы»), разбоя, убийства («душегубства»), злостной клеветы («ябедничества») или иного «лихого дела», на основании решения боярского суда подлежало смертной казни, а требуемое истцом (потерпевшим) выплачивалось из имущества преступника, при этом оставшаяся часть имущества передавалась боярину и дьяку (судье).
Обвинение со стороны пяти-шести заслуживающих доверия людей в воровстве, в случае, если доказано, что лицо ранее преступлений не со- вершало, влекло обязанность возмещения ущерба без проведения судебного разбирательства (ст. 12), а при поимке с поличным лица, о котором есть свидетельство этого же количества «добрых людей» о том, что оно и ранее неоднократно совершало кражи, влекло применение смертной казни с одновременным возмещением вреда из имущества преступника (ст. 13). Под поличным понималось похищенное имущество, найденное у преступника.
Судебником 1497 г. регламентировался институт недельщиков (приставов).
Согласно словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона недельщиком «в допетровской Руси назывался судебный пристав, исполнявший свои обязанности по неделям ("быть в неделях"). Состояли недельщики при дьяках, которые вносили их имена в особые книги, при вступлении в должность». Этот же словарь, определяя понятие пристава, говорит, что это название «в Древней Руси употреблялось разно. …В Москве приставами назывались исполнительные чины, на которых возлагались какие-либо особые поручения, например, сопровождение иностранных послов, для чего выбирались лица из знатнейших фамилий. В более узком смысле пристав – чиновник по судным делам, на обязанности которого лежал вызов на суд ответчика и свидетелей, а также производство взысканий по определению суда»1. Таким образом, пристав – это должностное лицо, а недельщик – одна из функций пристава, своеобразный процессуальный статус.
Недельщику запрещалось проводить судебные действия в том городе, где он проживает. В обязанности его входили: вызов сторон в суд, розыск ответчика на основании приставной грамоты и его допрос при наличии соответствующего поручения, задержание (арест) ответчика и доставление его в суд (либо недельщик мог потребовать от ответчика поручительства о явке в суд к установленной дате), взимание пошлин со сторон дела. За исполнение своих обязанностей недельщик получал определенное законом вознаграждение («езд», «хоженое») от заинтересованной стороны.
В Судебнике 1497 г. отсутствуют какие-либо нормы о розыске имущества и направленных на его установление действиях. Представляется, что эти функции могли выполняться именно недельщиками (приставами). Так, С.И. Штамм в комментарии к ст. 28 Судебника 1497 г., посвященной порядку выдачи приставных грамот, отмечала, что данные грамоты разрешали последнему брать на поруки ответчика при вызове его в суд, производить обыски или иные действия, необходимые для расследования по делу или приведения в исполнение приговора [2, с. 79].
Причина, по которой Судебник 1497 г. совершенно не урегулировал вопрос розыска похищенного имущества, в отличие от более ранней Русской Правды, возможно, заключается в том, что «…в данный период сохраняет свое действие и прежнее законодательство. Особое значение имеет Русская Правда. О ее действии говорит появление новых редакций этого закона, а также то обстоятельство, что новое законодательство не во всем заменило прежнее» [2, с. 28]. Таким образом, есть все основания полагать, что в период образования и укрепления Русского централизованного государства вопросы розыска имущества в уголовном судопроизводстве продолжали регламентироваться нормами Русской Правды.
В более позднем Судебнике 1550 г. указанные вопросы получили схожую с Судебником 1497 г. регламентацию. Например, согласно ст. 52 задержание лица с поличным являлось основанием для проведения процедуры повального обыска, то есть опроса всех жителей определенной местности о личности подозреваемого.
Конечно, для прояснения исследуемой темы необходимо обратиться к сохранившимся приставным грамотам того периода, которые выдавались приставу для вызова сторон в суд и проведения необходимых действий (ст. 28 Судебника 1497 г.), однако, как отмечает А.А. Калашникова, например, от Пскова сохранилась только одна правая грамота 1483 г. суда Ярослава Васильевича Оболенского, иные документы, в том числе приставные грамоты, до нас не дошли [3, с. 143–150]. В обзорных работах, посвященных сохранившимся судебным документам, приставные грамоты также не упоминаются [4, с. 264–272].
Составителями сборника «Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV – начала XVI в.» приведена всего одна приставная грамота 1462–1470 гг. [5, с. 238–239], однако по своему характеру она является «срочной» и содержит лишь предписание о вызове лиц в суд и предупреждение о том, что не явившийся будет «без суда виноват».
В то же время упоминание приставной грамоты встречается в других документах. Так, в жалованной оброчной грамоте верейского князя Михаила Андреевича Троице-Сергиева монастыря игумену Спиридонию на с. Илемну (1467) указано следующее: «А недельщику моему к ним в Илемну не въежа-ти, ни на поруку не дать без моей без приставной грамоты» [5, с. 252]. Как видно, здесь речь идет о полномочиях недельщиков по отобранию поручительства о явке в суд. Примечательно, что институт недельщиков упоминается в данном документе еще за 30 лет до создания Судебника 1497 г. Таким образом, Судебник законодательно закрепил их существование.
В другом документе – правой грамоте (1495–1499), данной судьей по земельному спору, записаны показания недельщика Васка Карачева, сооб- щившему суду о том, что отобрал поручительство за ответчика Степанка Дорогу, который, однако, сбежал со своими поручителями [5, с. 293].
Изучение сборников исторических документов позволило выявить конкретное уголовное дело, в котором имеются сведения об успешном розыске похищенного1. Так, С.М. Каштановым приведена датированная мартом 1503 г. правая грамота суда дворецкого Константина Григорьевича Заболоцкого прилуцким крестьянам Троице-Сергиева монастыря Федору и Константину Полуевым по тяжбе между ними и крестьянином с. Павловского Углицкого уезда Гридей Тевелгою о краже сена (список с судного списка) [6, с. 409–414]. Имеет смысл подробно привести обстоятельства данного дела, которое наглядно показывает практику данного исторического периода, в том числе гонения следа, известного еще по Русской Правде.
Итак, истцы сообщили суду, что (в прошедшую) зиму, прибыв на свой луг, обнаружили кражу тридцати копен сена. Они, взяв с собой до-водчиков2 («приставы») и местных крестьян («понятые», «погонные мужи»), а также образец похищенного, пошли по следу («да с остожья сена взявши, поехали есмя следом, трухою, куде сено везено»). Следы привели к жилищу Гриди Тевелги, во дворе которого было обнаружено похищенное, которое было изъято и опечатано («и мы с приставы и с мужми погонными то сено свое у него из сенници выняли», «и приставове … запечатав следовое сено … запечатав вынятое сено»). Сличение с образцом показало, что это и есть похищенное («наше сено следовое … приложили к тому сену х краденому, ино сено одно»).
Судья велел приставам распечатать обнаруженное имущество и образцы, сравнил их и убедился в их однородности.
Далее были допрошены: обвиняемый, который отрицал причастность к краже и показал, что сено ему подкинули; приставы – по обстоятельствам поступившего сообщения о преступлении, мерах к розыску имущества и преступника, изъятии обнаруженного и его сличении с образцом, а также по пояснениям Гриди Тевелги о том, что изъятое он купил, но не сказал, у кого именно; другие участники гонения следа – по аналогичным вопросам.
По результатам судебного разбирательства преступник был осужден («обвинил и судил его в тати и выдал его исцем на казнь по Судебнику»), а причиненный ущерб был возмещен путем обращения взыскания на его имущество («исцево велел доправити … из его статков»). Как видно, в данной правой грамоте имеется и прямая ссылка на Судебник 1497 г.
Большое значение розыска похищенного имущества в доказывании вины можно проиллюстрировать ст. 13 «Правосудия митрополичьего» (ок. 1390–1420)1 следующего содержания: «А татя без поличного ни вяза-ти, ни казнити, ни повесити» [7, с. 23].
Нормы, связанные с розыском имущества, встречаются и в других правовых актах. Так, в ст. 11 Жалованной уставной грамоты великого князя Ивана Васильевича жителям г. Белоозера и белозерских станов и волостей (март 1488 г.) [7, с. 38–40] в качестве поличного определяется только то, что найдется в закрытом хранилище («а поличное то, что выимут из клети из-за замка: а наидут что во дворе или в пустой хоромине, а не за замком, ино то не поличное»). В ст. 12 данной Жалованной уставной грамоты регламентирован порядок производства свода при обнаружении похищенного имущества («а у кого что познают татебное, а тот себя сведеть на свод, хотя и до десятого своду и до чеклого татя…).
Схожего содержания статьи имеются в Жалованной уставной грамоте великого князя Василия Ивановича Переславским рыболовам от 7 апреля 1506 г. [7, с. 44–46] и в ряде других аналогичных правовых актах.
Таким образом, в ходе исследования получены достаточные основания полагать, что в период образования и укрепления Русского централизованного государства вопросы розыска похищенного имущества в уголовном судопроизводстве продолжали регламентироваться нормами Русской Правды. При этом розыск осуществлялся как самими потерпевшими (истцами) совместно с членами своей общины, так и представителями власти, выполняющими функции приставов, что подтверждается примером конкретного уголовного дела, приведенного в настоящей статье, в котором воспроизводится процедура гонения следа, известного со времен Русской Правды. Учитывая, что роль приставов выполняли и недельщики. Полагаем обоснованным утверждение о том, что они могли проводить и обыск – как для задержания преступника, так и в целях розыска похищенного имущества (поличного).
Список литературы Регламентация розыска имущества в законодательстве периода образования и укрепления русского централизованного государства
- Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / под общ. ред. О.И Чистякова. - Москва: Юридическая литература, 1985. 520 с.
- Штамм С.И. Комментарий к Судебнику 1497 года / С.И. Штамм // Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. - Москва: Юридическая литература, 1985. С. 79.
- Калашникова А.А. Правоприменение Судебника 1497 г. Насколько точно законодательные нормы применялись в суде? / А.А. Калашникова // Вызов времени: становление централизованных государств на востоке и западе Европы в конце XV-XVII в. - Калуга, 2019. - C. 143-150.
- EDN: CGZDWR
- Калашникова А.А. К вопросу о классификации русских судебных документов XV - первой половины XVI в.: правые грамоты и судные списки / А.А. Калашникова // Петербургский исторический журнал. - 2018. - № 4. - С. 264-272.
- EDN: YQXDJZ
- Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV - начала XVI в. / отв. ред. Б.Д. Греков. - Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1952. Т. 1. 804 с.
- Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики / С.М. Каштанов. - Москва: Наука, 1970. 503 с.
- EDN: SXCHMH
- Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV - начала XVI в. / отв. ред. проф. Л.В. Черепнин. - Москва: Наука, 1964. Т. 3. 688 с.