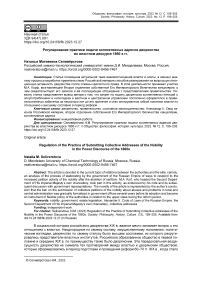Регулирование практики подачи коллективных адресов дворянства во властном дискурсе 1860-х гг
Автор: Селиврстова Н.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной теме взаимоотношений власти и элиты, а именно анализу процесса выработки правительством Российской империи способов реагирования на возросшую петиционную активность дворянства после отмены крепостного права. В этой деятельности принимал участие М.А. Корф, возглавлявший Второе отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, о чем свидетельствует его записка и её последующее обсуждение с представителями правительства. Новизну статьи представляет вывод автора о том, что запрет на подачу дворянских коллективных петиций о злоупотреблениях и неполадках в местном и центральном управлении постепенно оформлялся в правительственных кабинетах за несколько лет до его принятия и стал инструментом гибкой политики власти по отношению к высшему сословию в период реформ.
Дворянство, правительство, сословное законодательство, александр ii, свод законов российской империи, второе отделение собственной его императорского величества канцелярии, коллективные адреса
Короткий адрес: https://sciup.org/149144308
IDR: 149144308 | УДК: 94(47).081 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.27
Текст научной статьи Регулирование практики подачи коллективных адресов дворянства во властном дискурсе 1860-х гг
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия, ,
понятно, что власть в Российской империи не рассматривает благо высшего сословия главной целью своей политики и готова поступиться им, если речь идет о пользе всего государства.
Целью данного исследования является попытка выяснить, как в недрах властных структур формулируется запрет на подачу коллективных адресов от дворянских обществ, речь в которых идет как о вопросах местного, так и общегосударственного управления. Этот запрет стал своеобразным символом серьезных изменений, которые претерпела система взаимоотношений власти и высшего сословия Российской империи в период Великих реформ.
В исторической литературе вопрос об изменении отношений власти и дворянского общества, как правило, рассматривался в русле изучения правительственной политики пореформенного периода и отчасти в работах, где анализировалось сословное законодательство этого времени. Среди первой группы работ нельзя не упомянуть монографию В.Г. Чернухи, в которой была проанализирована реакция правительства на оппозиционные выступления дворянства и земства (Чернуха, 1978). Автор исследования отмечала, что в 1862 г. дворянство часто выступало с предложениями о создании верховного представительного органа власти, участии в нем высшего сословия, что чрезвычайно беспокоило правительство (Чернуха, 1978: 27). Но уже следующий, 1863 г. принес смягчение в отношения самодержавия и дворянства (Чернуха, 1978: 30). Вопрос о том, как изменилось законодательное регулирование практики подачи адресов от дворянских обществ после последнего по времени оживления петиционной активности 1865–1866 гг. не был отражен в исследовании, преимущественно сосредоточенном на изучении феномена конституционализма в правительственной среде.
Во всестороннем исследовании А.П. Корелина, посвященном истории российского дворянства во второй половине XIX в., подробно изложены обстоятельства оживления политической активности дворянства в первые пореформенные годы, выразившиеся в адресной активности (Корелин, 1979). Кроме того, видный отечественный историк внимательно изучил содержание этих адресов, затрагивающих как социально-экономические, так и политические вопросы. При этом А.П. Корелин фиксирует, каким образом правительство законодательно ограничило, в конце концов, право дворян напрямую обращаться к властям по вопросам общегосударственного характера, отменив 135 статью девятого тома Свода законов о состояниях (Корелин, 1979: 250). Эта статья давала право собраниям дворянства делать представления «губернскому начальству и высшему правительству о нуждах дворянства, о прекращении местных злоупотреблений или об устранении неудобств, замеченных в местном управлении, хотя б они происходили и от общего какого-либо установления»1. Само это решение предстает как свершившийся факт при издании Продолжения Свода законов в 1868 г., по итогам оживления петиционной деятельности дворянских обществ, последний пик которой пришелся на 1865–1866 гг. Но в этом исследовании не прослежен процесс принятия решения правительством об исключении чрезвычайно значимой во взаимоотношениях власти и дворянства статьи закона.
В обобщающей монографии Н.И. Ивановой и В.П. Желтовой, посвященной истории сословий периода Российской империи, рассматривается вопрос о регулировании государством деятельности дворянских обществ (Иванова, Желтова, 2010). Не ускользают от внимания исследователей и те изменения, которые произошли со статьей 135, которая присутствовала в Своде законов 1857 г., но была устранена к 1868 г. В данной работе утверждается, что статья 135 была фактически отменена рескриптом Александра II от 29 января 1865 г. после появления адреса от московского дворянского собрания с предложением создания всероссийского представительного органа власти. Тем не менее, данное исследование преимущественно опирается на действовавшее законодательство, а работа, предшествующая принятию этих законов, остается за рамками внимания авторов.
Современный классик отечественной социальной истории Б.Н. Миронов в своем масштабном труде прослеживает, как на протяжении XIX в. правительство постепенно ограничивало право дворянских собраний предоставлять правительству и императору свои ходатайства. Ситуация изменилась кардинально: от полного отсутствия каких-либо ограничений, касающихся содержания петиций, до введенного рескриптом Александра II запрета касаться других тем, кроме непосредственно дворянских нужд (Миронов, 2003: 517–518). Выделение общих тенденций в социальной истории разных сословий Российской империи по объективным причинам не позволило автору этого знакового исследования остановиться на деталях, определявших правительственную политику в сословном законодательстве, сосредоточиться на черновой подготовительной работе кабинетов и ведомств.
После начала подготовки к отмене крепостного права в России, ознаменованного известным рескриптом Александра II В.И. Назимову 20 ноября 1857 г., правительственные учреждения захлестнула волна проектов освобождения крестьян, составленных представителями высшего сословия. Поражает разнообразие различных социальных групп, относящихся к дворянству и задействованных в этом законотворческом процессе. В нем участвуют помещики среднего достатка, владельцы латифундий, чиновники, офицеры, ученые, мужчины и женщины, представители разных возрастных категорий, обладавшие различным уровнем образования. Все они стремились донести до власти свою точку зрения на чрезвычайно важную для них крестьянскую реформу. Многие помещики сомневались в том, что петербургское чиновничество, не знакомое с хозяйственной практикой помещичьих имений, может составить адекватный проект преобразований. Вот как об этом писал И.В. Павлов, близкий И.С. Тургеневу литератор, сенатору А.М. Кня-жевичу: «Мы, дворяне-помещики, именно те даже, которые желают этой меры, боятся её в том случае, если она будет решена только комитетом, без участия мнений и соображений всех маленьких. Будь они люди самые добросовестные, но они все-таки люди кабинетные, решительно не знающие и не могущие ниоткуда узнать настоящих обстоятельств, и сверх того, нисколько не подумают озаботиться об интересах дворянства»1. Индивидуальные дворянские проекты начали поступать в правительство с конца 1857 г., многие датированы 1858 г., когда уже повсеместно действовали губернские комитеты по улучшению быта помещичьих крестьян.
Даже когда стало очевидно, что в окончательном варианте крестьянской реформы правительство не учло подавляющее большинство рекомендаций дворянства, эти проекты, в основной массе адресованные Александру II, продолжали поступать практически вплоть до 19 февраля 1861 г.
Общей для этих проектов была уверенность авторов, что их голос будет услышан, попытка напрямую общаться с императором и высшими чиновниками, некоторая независимость по отношению к власти. Эта уверенность была основана на закрепленном в законе и укорененном в сознании дворянства привилегированном положении «первейшего сословия Российской империи». Одной из таких привилегий было право дворянского собрания обращаться с адресами, прошениями не только к начальнику губернии и министру внутренних дел, но и к самому импера-тору2. Кроме того, закон утверждал, что «одному дворянству дозволяется представлять сообща, об устранении неудобств в местном управлении, даже таких, которые происходили бы от общего какого-либо постановления»3.
В последние годы перед отменой крепостного права активизируется деятельность дворянских собраний по составлению адресов на имя императора, притом, что специальным рескриптом царь запретил обсуждение крестьянского вопроса на корпоративных собраниях.
После отмены крепостного права, с началом серии последующих преобразований, императору Александру II все чаще направляют коллективные адреса представители разных сословий и состояний: городские общества, сообщества, объединенные по религиозному принципу (протестанты, евреи). Большая часть этих адресов носила благодарственный характер, и правительство, несмотря на то что сам факт их составления и подачи не соответствовал букве закона, не наказывало авторов этих обращений. Де-факто эта практика уничтожала уникальность привилегии дворянства составлять адреса на высочайшее имя, также как обращаться к министру внутренних дел.
С другой стороны, уже в 1862 г., после участившейся практики направления адресов на высочайшее имя, составляемых дворянскими собраниями, в которых речь шла о недовольстве крестьянской реформой, создании общероссийского представительства, правительство начинает задумываться об ограничении этой дворянской привилегии.
Барон М.А. Корф, главноуправляющий Вторым отделением, составляет записку, датированную 1 апреля 1862 г., в которой анализирует практику подачи адресов от разных сословий, те случаи, когда нужно наказывать за подобные акции, и когда не нужно этого делать4. В данном случае, во-первых, следует отметить роль Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии в разработке сложного для власти вопроса. Во-вторых, обращает на себя внимание тот факт, что случившееся через несколько лет изменение законодательства, ограничившее права дворянства при составлении адресов, не было абсолютно спонтанным, реактивным, вызванным к жизни исключительно постановлением московского дворянского собрания 1865 г.
С самого своего назначения главноуправляющим II отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии М.А. Корф стремился расширить полномочия подведомственного ему учреждения в решении любых вопросов, связанных с изменением существующего законодательства. Так, он выступал за то, чтобы подобные дела в обязательном порядке сначала поступали на рассмотрение министерства, а затем с заключением министерства отправлялись во Второе отделение, и крайне отрицательно относился к тому, что рекомендации Второго отделения зачастую рассматривались чиновниками как ни к чему не обязывающие консультации1. М.А. Корф в целом выступал за усиление влияния Второго отделения, об этом направлении его деятельности пишет И.В. Ружицкая (2015: 323). Александр II, тем не менее, отказался менять существовавший порядок представления дел.
Как написано в преамбуле записки, инициатором её написания выступал сам император Александр II, который через управляющего министерством народного просвещения (А.В. Головнина) передал свою волю непосредственно М.А. Корфу. Воля императора состояла в том, чтобы были выяснены следующие вопросы: «необходимость пересмотра и более ясного и точного изложения постановлений относительно: 1) прошений, подаваемых большим числом (адресов); 2) взыскания за подобные действия, и 3) тех случаев, когда допускается наказание без формального суда»2.
Прочитана готовая записка была, прежде всего, императором, который повелел отправить её на согласование с министром внутренних дел П.А. Валуевым, который сделал несколько заметок в присланной ему копии записки. Кроме этого, с текстом должны были ознакомиться министр юстиции, управляющий министерством народного просвещения и шеф жандармов, и лишь после этого следовало предоставить записку для обсуждения в Совет Министров.
М.А. Корф пишет, что к составлению записки его подвигли «неполнота и неясность существовавших доселе законов наших о прошениях», а также то, что адреса «с теми особенными признаками, которые заставляют принять против них некоторые меры предосторожности, стали являться лишь в недавнее время»3.
Согласно дореформенному законодательству, сельские общества могли ходатайствовать о своих нуждах4, городские – о своих общественных нуждах и пользах5, купеческое сословие могло делать замечания о несоответствии торговли уставам и о нарушении прав купечества недоразумением, попущением или неблагонамеренностью исполнителей6. Но подавать ходатайства они могли только губернатору, а купечество в делах торговли могло направлять свои адреса через городских голов в министерство финансов.
Исключительно губернским дворянским обществам дозволялось направлять адреса непосредственно на имя императора, а также ходатайствовать помимо начальника губернии перед министром внутренних дел7. Отдельная статья Свода законов была посвящена праву дворянства делать представления о местных злоупотреблениях или об устранении неудобств, замеченных в местном управлении, хотя бы они происходили и от общего какого-либо постановления8.
Как справедливо отмечал отечественный исследователь А.П. Корелин, «в дореформенную эпоху, вплоть до обсуждения проектов крестьянской реформы, дворянство фактически не пользовалось этим правом в полном объеме…» (Корелин, 1979: 234). Однако когда правительство всерьез взялось за подготовку отмены крепостного права, подача коллективных адресов стала играть роль прямого канала коммуникации между высшим сословием и верховной властью. Именно в этом качестве её рассматривало само дворянство.
Другие сословия, затронутые крестьянской реформой и последующими преобразованиями, также стали гораздо активней прибегать к коллективным адресам. Содержание этих адресов на высочайшее имя носило, как правило, панегирический характер, но их направление непосредственно в высочайшие руки было прямым нарушением закона. Как писал об этом в своей записке М.А. Корф: «На этом основании городское общество, которое обратилось бы с своим адресом прямо в министерство, или купеческое общество, которое адресовало бы его прямо Императорскому величеству, чрез то самое отняло бы у своего прошения характер законности»9.
О подобной практике коллективных посланий на имя императора, которые стали практически общим местом в период царствования Александра II, упоминает публицист М.Н. Катков. Открытие Московской городской думы в 1863 г. совпало по времени с польским восстанием, и вот первым решением нового учреждения становится принятие «всеподданнейшего адреса по поводу смут, происходящих в Польше» (Катков, 2011: 47).
После царского манифеста от 31 марта 1863 г. дворянские общества всей России, в числе которых, конечно, было и московское, составили и направили патриотические адреса на высочайшее имя. Но воодушевление коснулось и других сословий. «Около этого же времени временнообязанные крестьяне разных губерний, проживающие в Москве, выразили желание заявить перед престолом те чувствования, которые теперь одушевляют всех и каждого». Аналогичное послание было также составлено и от лица старообрядческих общин Москвы (Катков, 2011: 50). Коллективное выражение верноподданнических чувств по общезначимым для всей империи событиям, вовсе не ограниченное кругом местных «нужд и польз», не вызывало противодействия со стороны властей.
М.А. Корф в своей записке преимущественное внимание уделяет регулированию подачи адресов, исходящих из среды дворянства. Так, он выделяет те случаи, когда адреса, происходящие из законного источника, становятся незаконными: во-первых, когда неприлично их изложение; во-вторых, когда они касаются предметов, выходящих из предначертанного сословию круга; в-третьих, когда представлены не в установленном порядке1. Он предлагает определить законом наказания, соответствующие трем категориям нарушений порядка составления адресов.
Глава Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии ставит вопрос, нужно ли наказывать за нарушение хотя бы одного из этих условий, и подчеркивает, что поскольку эти адреса составляются от лица сословных обществ, то «налагать взыскания на целые сословия вообще затруднительно, и они более раздражают, чем исправляют». Конечно, отказываться от наказаний тех, кто нарушает полномочия власти, нельзя. Как пишет об этом М.А. Корф: «Но могут, однако же быть и такие случаи, в которых нельзя простить нарушителей, без опасения общественного от того вреда»2.
В любом случае, все взыскания, как особо оговаривает это М.А. Корф, должны быть наложены исключительно в судебном порядке. Кроме того, правительство само должно решить, требовать ли наказания виновных, ограничиться ли тем, чтобы оставить прошение без внимания, или ответить на него отказом. И здесь М.А. Корф проявляет свое отношение к рассматриваемому предмету, он отмечает: «Иногда, и даже очень часто, мотивированный, хладнокровный отказ будет лучше всяких взысканий, проявляя в высшем свете достоинство правительства и ошибку тех просителей (адресантов), которые не умели уважить собственного достоинства»3.
М.А. Корф предлагал, чтобы решение о том, должны ли быть переданы суду те, кто оказался виновен в нарушении условий подачи адресов, выносилось Советом министра внутренних дел. О ходе подобных дел министр внутренних дел должен был сообщать императору, что было вполне целесообразно. Но обязательность этого обращения не должна была быть прописана в законе, «ибо самое выражение, что виновные предаются суду по высочайшей воле, могло бы в иных случаях, предрешать изречение судей»4. Подчеркивая обязательность этого условия, автор записки демонстрирует тонкое знание правоприменительных традиций в России, где подчиненные стремились предвосхитить своими действиями монаршью волю, даже не вполне ясно выраженную.
Кроме того, именно императору, от имени которого должен выноситься приговор, принадлежит высшее право в решении дел о подаче коллективных адресов со стороны дворянства – он мог сказать свое слово тогда, когда суд уже определил свое решение, исходя из «буквы закона».
В записке М.А. Корфа в отдельную группу дел выделаются те, которые касаются прошений, составленных большим числом людей, не относящихся к высшему сословию. Также как в случае с дворянскими адресами, ответственность за незаконные коллективные прошения и письма должна определяться исключительно судом. Но эти послания могут считаться преступлением, если «по содержанию изложения или же обстоятельствам, сопровождавшим сочинение, распространение или представление прошения или письма, подписанного более чем одним лицом, оно составляет преступление, или проступок, на основании общих уголовных законов»5. Не вполне ясно изложенный пункт проекта закона свидетельствует о том, что автор его испытывал сложности, пытаясь отделить допускаемые властями практики подачи коллективных посланий, как, например, приветственные адреса от нежелательных лиц.
Дела о прошениях и письмах, подносимых или присылаемых с большим числом подписей, то есть адресах, должны передаваться в суд местными прокурорами в общеустановленном порядке, но по-особому, для каждого случая предписанию министерства юстиции, либо губернатора, либо того учреждения или лица, на имя которого составлено незаконное коллективное послание6.
М.А. Корф предлагает следующее наказание для авторов и составителей незаконных коллективных писем и прошений, происходящих не из дворянской среды: арест от семи дней до трех месяцев либо тюремное заключение от трех месяцев до одного года, либо штраф от 10 до 500 руб. с каждого из подписантов1. Отдельно автор записки оговаривает ситуацию, когда в подписании письма или прошения, а также в его подаче адресату принимает участие должностное лицо. В этом случае наказанием будет служить его отставка.
Итак, согласно записке М.А. Корфа, ответственными за составление коллективного прошения или письма будут считаться, прежде всего, те люди, чья подпись придает посланию официальное значение, то есть должностные лица. Следующими в списке ответственных стоят те, кто лично подавал прошение или письмо. Наконец, из тех, кто подписали письмо, кроме должностных лиц в коллективных адресах, ответственность падает только на поставивших первые три подписи в списке2. В этом пункте М.А. Корф следует той же логике, которая вынуждала его отказываться от наказаний целых дворянских обществ за коллективные незаконные адреса. Но в данном случае речь не идет о «мотивированном хладнокровном отказе» либо об «оставлении без ответа» письма или прошения, как предлагал автор. Очевидно, что если представители власти сочтут содержание адреса неподобающим, он будет тут же признан незаконным, и в этом смысле записка М.А. Корфа при всей её скрупулёзности не конкретизирует существовавшую законодательную норму.
Завершая обзор записки М.А. Корфа, следует отметить, что сам подход, когда в одном документе рассматривались коллективные адреса как от непривилегированных сословий, так и от дворянства, уже свидетельствует о тенденции к уравнению их в правах, которая наметилась в ходе реформ 60–70 гг. XIX в. Конечно, нельзя не заметить, что автор записки не скрывает своего сочувственного тона, когда говорит о заблуждениях представителей дворянства, не уважающих собственного достоинства.
В то же время весьма симптоматично, что систематическое изложение вопроса о регулировании практики подачи коллективных адресов как от дворянских, так и от других обществ, было поручено руководителю Второго отделения собственной его императорского величества канцелярии. Это происходит в 1862 г., когда правительство пережило очередную волну «адресной кампании», но до оформления в букве закона ограничений в этой сфере. Тем не менее, вопрос уже начал весьма последовательно разрабатываться, проходил различные стадии обсуждения в коридорах власти.
После того, как записка М.А. Корфа была согласована с различными министерствами, и, прежде всего, с П.А. Валуевым, министром внутренних дел, состоялось совещание во Втором отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Об этом совещании, посвященном изданию дополнительного постановления об адресах, на котором 6 ноября (1862 г.) присутствовали кн. В.А. Долгоруков, Д.Н. Замятнин, А.В. Головнин и П.А. Валуев, можно найти упоминание в дневнике последнего3.
В итоге губернское дворянское собрание сохранило право через предводителя обращаться к императору и министру внутренних дел о своих сословных нуждах. Однако право дворян заявлять о недостатках в местном управлении было отменено в 1865 г., после известного адреса московского дворянского собрания, в котором содержалось предложение созвать «общее собрание выборных людей от земли Русской, для обсуждения нужд, общих всему государству» (Татищев, 1996: 580).
После 1866 г. уже не было активных выступлений дворянских собраний, не составлялись коллективные обращения (адреса) с предложениями по содержанию проводимых преобразований. И тогда, уже во время нового царствования, при Александре III в законодательство была возвращена статья 135, но при этом в нем осталась статья 142, подчеркивающая запрет дворянским собраниям обсуждать вопросы государственного управления, лежащие за пределами их компетенций. Эти изменения были отражены в Своде законов 1899 г.4
Таким образом, добившись усмирения активности дворянских собраний, свойственной первым пореформенным годам, верховная власть реставрировала канал беспрепятственной прямой коммуникации с высшим сословием, сохранив напоминание о том, что не следует злоупотреблять этой важнейшей привилегией. Эти динамичные изменения в законодательстве стали инструментом гибкой правительственной политики по отношению к дворянству в сложный период преобразований 60–70 гг. XIX в.
Список литературы Регулирование практики подачи коллективных адресов дворянства во властном дискурсе 1860-х гг
- Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество Российской империи (XVIII - начало XX века). М., 2010. 752 с. EDN: QBREDX
- Катков М.Н. Самодержавие царя и единство России // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2. Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб., 2011. С. 47-50.
- Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904 гг.: Состав, численность, корпоративная организация. М., 1979. 303 с. EDN: SGNGKV
- Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.): в 2 т. СПб., Т. 1. 2003. 566 c.
- Ружицкая И.В. Второе отделение СЕИВК в законодательной политике российской империи // Преподаватель ХХI век. 2015. № 3. С. 316-327. EDN: ULKIEV
- Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование: в 2 т. М., 1996. Т. 1. 603 с.
- Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978. 246 с.