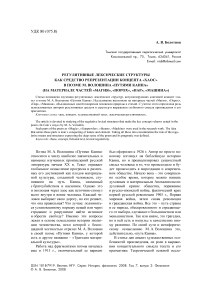Регулятивные лексические структуры как средство репрезентации концепта «хаос» в поэме М. Волошина «Путями каина» (на материале частей «Магия», «Порох», «Пар», «Машина»)
Автор: Болотнов А.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению регулятивных лексических структур, актуализирующих ключевой концепт «хаос» в поэме М. А. Волошина «Путями Каина». Исследование выполнено на материале частей «Магия», «Порох», «Пар», «Машина», объединенных идеей покорения человеком природы и стихий. С учетом этого определена роль использованных автором регулятивных средств и структур в выражении глубинного смысла произведения и его прагматики.
Хаос, концепт, художественный текст, лексическая регулятивность
Короткий адрес: https://sciup.org/14736962
IDR: 14736962 | УДК: 80
Текст научной статьи Регулятивные лексические структуры как средство репрезентации концепта «хаос» в поэме М. Волошина «Путями каина» (на материале частей «Магия», «Порох», «Пар», «Машина»)
Поэма М. А. Волошина «Путями Каина» относится к числу наиболее значительных и наименее изученных произведений русской литературы начала XX в. Текст отражает глобальное осмысление прогресса и различных его достижений как плодов материальной культуры, созданной человеком, ступившим на путь Каина, связанный с братоубийством и насилием. Однако это и эволюция через хаос как источник-стимул всего внутри и вовне человека. Каждый человек выбирает свою дорогу, но кто решает, что она правильная? Что лучше: подчиняться установленному порядку вещей или через страдание и разрушение найти истинное и обрести свободу? Именно эти вопросы лежат в основе осмысления истории эволюции человечества, вехи которой с беспощадной честностью отразил М. А. Волошин в своей поэме «Путями Каина», у которой есть и другое название – «Трагедия материальной культуры».
Работа над фрагментами поэмы началась еще в 1915 г., окончательный ее вариант был оформлен к 1926 г. Автор не просто по-новому взглянул на библейскую историю Каина, но и проанализировал сущностный смысл человека и то, что происходило и будет происходить в мироздании и современном обществе. Начало века – это совершенно особое время, которое можно назвать духовным и материальным Апокалипсисом: духовный кризис общества, поражение в русско-японской войне, фактический крах первой русской революции 1905 г., Первая мировая война, затем снова революция и гражданская война. Все это – путь страны и ее народа, обескровленного и страдающего от выбора, сделанного большинством или меньшинством. Так или иначе, это трагедия, но в ней есть и импульс к качественно иному развитию. По своей сути и метафорическому осмыслению М. А. Волошина это, действительно, «путь Каина».
В статье дан анализ художественных особенностей произведения, их роли в выражении концептуального смысла текста и его прагматики. Теоретической основой иссле-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © А. В. Болотное, 2008
дования является теория регулятивности, разработанная в коммуникативной стилистике текста Н. С. Болотновой [1998; 2003; 2006], а также в соавторстве с ее учениками И. И. Бабенко, А. А. Васильевой и др. [2001]. Под регулятивностью понимается системное качество текста, отражающее его способность, воздействуя на читателя, направлять его познавательную деятельность [Сидоров, 1987].
В рамках теории регулятивности выделяются: 1) регулятивные средства на уровне элементов текста (тропы, фигуры, ключевые слова, названия), соотносящихся в сознании читателя с определенной микроцелью; 2) регулятивные структуры (регулятивы), отражающие взаимосвязь регулятивных средств (стилистические приемы, текстовые парадигмы; типы выдвижения); 3) доминанты регулятивности (преобладающие регулятивные средства одного типа); 4) регулятивная макроструктура (отражающая взаимосвязь разных регулятивных структур в рамках целого текста); 5) способы регуля-тивности (принципы организации интерпретационной деятельности читателя); 6) регулятивные стратегии (разные типы целевых программ, направленных на сотворчество автора с читателем). Лексические регулятивные средства и структуры являются ключевыми в воздействии на читателя (кроме указанных выше исследований по коммуникативной стилистике текста, см. также работы Н. Г. Петровой [1998; 2000], Т. Е. Яцуга [2006], Ю. Е. Бочкаревой [2007] и др.). Это связано с ведущей ролью слова в выражении смысла и создании эстетического эффекта.
Использование теории регулятивности для изучения концептуального смысла произведения и отдельных ключевых концептов является эффективным, так как дает возможность системного анализа средств их репрезентации и выявления коммуникативного эффекта на основе приемов интроспекции, контекстологического анализа и проведения экспериментов в случае необходимости.
Одним из ключевых в поэме «Путями Каина» является концепт «хаос», системно связывающий разные ее части, их тематику и проблематику. Они объединены идейнотематическими повторами, позволяющими раскрыть разные грани концепта «хаос». Текст поэмы представляет собой многомер- ную структуру, развертывающуюся по спирали: основные идеи и темы первых частей получают свое развитие далее и итоговое завершение – в заключительных частях произведения. Так, акт творения мира из хаоса, образно представленный в первой части поэмы «Мятеж», отражен в одиннадцатой части «Космос». Мотив хаоса в душе человека (внутренний хаос) представлен во второй части «Огонь», в девятой части «Бунтовщик», двенадцатой части «Таноб», четырнадцатой части «Левиафан», пятнадцатой части «Суд». По-разному проявляясь, хаос творит, разрушает, и человек созерцает бездну внутри себя.
Идея покорения человеком природы и стихий (преодоления хаоса и попытки утвердить порядок) раскрыта в четырех частях поэмы: третьей («Магия»), шестой («Порох»), седьмой («Пар»), восьмой («Машина»). Наибольшее воплощение в поэме М. А. Волошина получило осмысление социального хаоса как ужаса и краха цивилизации, связанного с мятежом, революциями, войнами. Этому посвящено восемь частей поэмы: вторая часть «Огонь», четвертая – «Кулак», пятая – «Меч», шестая – «Порох», девятая – «Бунтовщик», десятая – «Война», тринадцатая – «Государство», четырнадцатая – «Левиафан».
Каждый блок названных частей поэмы, отражающий определенные направления ассоциирования в раскрытии концепта «хаос», может быть предметом специального рассмотрения. Мы остановимся на мотиве преодоления хаоса и утверждения порядка, раскрывающемся в четырех частях поэмы: «Магия», «Порох», «Пар», «Машина». Эти части отражают этапы изобретения человеком различных способов защиты от стихии хаоса. Хаос можно рассматривать как необъяснимое, непознанное и сверхъестественное, скрытое в глубинах подсознания человека и человечества. Об этом пишет М. А. Волошин: «Освободить и разнуздать не трудно /Неведомые дремлющие воли: / Трудней заставить их себе повиноваться». Данный афоризм означает трудность управления стихиями. Хаос рассматривается автором как разрушительная потенция во всем, что существует. Личность, ее сознание и подсознание представляют собой целый мир, достаточно полный и уникальный. Важно, что человек – это, с одной стороны, материальная сущность, имеющая непосредственную оболоч- ку - тело, а с другой - душа, или пневма, частица божественного духа, составляющего внутреннюю природу живого и наполняющего материю. Человек неотделим от общества, как его душа от его тела.
М. Волошин осознает мир как место, в котором правят различные тайные и явные стихии: « Когда разъятые потом сознаньем силы / Ему являлись в подлинных обличьях / И он вступал в борьбу и в договоры / С живыми волями, что раздували / Его очаг, вращали колесо, / Целили плоть, указывали воду, / –Тогда он знал, как можно приневолить / Себе служить Ундин и Саламандр, / И сам в себе старался одолеть / Их слабости и страсти».
Автор использует символы стихий Огня и Воды ( Ундины и Саламандры ), с которыми вступает « в борьбу и договоры » человек, преодолевая « их слабости и страсти» (с помощью индивидуально-авторских синонимов слабость и страсть образно отражается внутренний хаос в душе). Другим синонимом хаоса являются стихии : «Когда пред ним стихии разложились / На вес и на число — он позабыл, / Что в обезбоженной природе живы / Все те же силы, что овладевают / И волей и страстями человека».
Общество создает основы культуры и приобщает к ним личность через воспитание и средства познания. Человек одержим многими желаниями в силу разных начал своей внутренней организации, их диалектическое взаимодействие влечет потребность к развитию и одновременно содержит желание пересоздавать и как следствие -разрушать созданное. Хаос в обществе, стимулированный прогрессом, сравнивается М. Волошиным с хаосом в природе, рожденным стихиями: «Бесы пустынь, самумов, ураганов / Ликуют в вихрях взрывов, / Дремлют в минах / И сотрясают моторы машин, / Ундины рек и Никсы водопадов / Работают в турбинах и котлах». Вихри взрывов предстают в поэме как синоним хаоса, рожденного прогрессом .
Природа, преображенная и измененная человеком и на его благо, хранит отголоски прежних мифов и легенд; стихия, преображенная в порядок, по мысли автора, находится в хрупком равновесии, которое может породить хаос в обществе: «Меж духами стихий и человеком / Не угасает тот же древний спор, / Что человек, освобождая силы / Извечных равновесий вещества, / Сам делается в их руках игрушкой».
Магия трактуется М. Волошиным как нечто ирреальное и сверхъествественное, содержащее сущностный мотив хаоса, дающий силу, но и способный подчинить и захватить того, кто обращается к этой силе. Магия, шаманизм, культы богов и демонов, всевозможных духов природы - это потребность сложных и, скорее всего, бессознательных стремлений понять и объяснить себя и окружающий мир. Магия - это поиск соломинки, ухватившись за которую, можно спастись от вечной неопределенности и непредсказуемости жизни как нелинейного процесса, где человек лишь заложник жизненных обстоятельств своего времени. В этом отношении совершенно не имеет значения, идет ли речь о человеке на заре его существования или же о человеке начала XXI в. Наука, основное средство технического прогресса, превращается в чудесную силу прошлого - магию, дающую силу и власть над природой.
Идею части «Магия», на наш взгляд, можно определить как «искусство подчинять духовной воле косную природу». Извечные равновесия вещества косвенно отображают хаос как источник равновесия, а человек, верящий только в свои силы и увлеченный своим призрачным могуществом, забывает о том, что силы вещества не подчиняются законам общества. М. А. Волошин подчеркивает, что бездуховность является одной из граней трагедии материальной культуры. То, что раньше останавливало человека (вера в сакральность, непознаваемость мира и природы), теперь забыто. Человек сам решает, во что ему верить, являясь творцом и заложником того, что он создает: «Но люди неразумны. Потому / Законы жизни вписаны не в книгах, / А выкованы в дулах и клинках, / В орудьях истребленья и машинах». Человек, считает автор, - создатель, творец, но он же и разрушитель и убийца всего живого. Он рождает социальный хаос. Магия превращается в науку, а она служит истреблению людей, вместо того, чтобы развивать духовность.
Логическим продолжением в осмыслении прогресса как средства защиты от хаоса и одновременно средства его порождения является часть «Порох». Порох стал оружием и символом разрушения, тем, что способно разрушить горы и стереть с лица Земли цивилизации. Инстинкт разрушения модернизировал порох, заменив его на более совершенную взрывчатку - динамит, который сравним только с призраком Апокалипсиса - ядерным взрывом или взрывом звезды - сверхновой, дающей начало новой Вселенной. Человек способен уничтожить все живое и пересоздать Вселенную. Совершенствуя порядок, он во власти желаний и инстинктов только приближает хаос и становится его жертвой - такая мысль возникает при чтении произведения.
Порох представлен в поэме как символ стихии, как частичка хаоса «под призрачным контролем человека»: « Черный порох в мире был предтечей / Иных еще властительнейших сил». Автор персонифицирует порох, образно подчеркивает его силу, которая несет разрушения и одновременно объединяет людей: « Он вынудил разрозненные толпы / Сомкнуть ряды, собраться для удара». Прием антитезы и использование синонимов создает в данном случае особый прагматический эффект. Удачно применяется в этой части поэмы синтаксический тип регулятив-ности: прием синтаксического параллелизма создает особый ритм и выполняет смыслообразующую функцию - усиливает идею порядка: « Он дал ружью - прицел, / Стволу -нарез, / Солдатам - строй, / Героям - дисциплину, / Он распахнул им дверь, / И вот мы на пороге / Клубящейся неимоверной ночи, / И видим облики чудовищных теней, / Неназванных, немыслимых, которым / Поручено грядущее земли». Благодаря развернутой индивидуально-авторской метафоре, создающей образ предстоящего Апокалипсиса, предшествующего хаосу; ярким эпитетам и эвфемизму, олицетворяющему Зло (облики чудовищных теней, /Неназванных, немыслимых ), создается мрачная картина будущего.
Тема хаоса, создаваемого техническим прогрессом, продолжена в седьмой части поэмы «Пар»: «Свист, грохот, лязг, движенье - заглушили /Живую человеческую речь, / Немыслимыми сделали молитву, /Беседу, размышленье; превратили /Царя вселенной в смазчика колес». Пар - это особое состояние воды и огня, то, что оживляет машины. Двигатель создан для работы механизмов, а пар - это дух или душа механизмов. Паровая энергия - энергия самой природы, которую человек научился применять и подчинять своим далеко идущим целям. Но техника изменила и человека, превратившегося из «Царя вселенной в смазчика колес».
Эта же мысль подчеркивается автором в восьмой части поэмы - «Машины». Основная идея ее - технический прогресс уничтожает душу человека, превращает его в раба и часть механизма. При этом автор использует прием антитезы, противопоставляя « древние равновесья » (гармонию) хаосу прогресса: « Пока рука давила на рычаг, / А воды вращали мельничное колесо - / Их силы / Не нарушали древних равновесий. / Но человек к извечным тайнам подобрал ключи / И выпустил плененных исполинов» .
Создавая новый мир своими руками, человек подобен Богу, а вся планета - фабрике, заводу, мастерской, где прогресс так же опасен, как регресс, ибо приводит к войнам, противоборствам и подавлению. Машина предстает как главная опасность для живого, так как лишена души, а человек - не Бог, но создатель и слуга своих творений. Хозяин природы, как он себя считает, превращается в заложника машины, которая похожа на своего творца только одним: способностью, разрушая, творить и неспособностью остановиться на достигнутом.
Основным типом выдвижения в этой части поэмы является конвергенция как способ регулятивности: машины олицетворяются, их действия гиперболизируются, в их характеристике используются сравнения, метафорические перифразы, эпитеты, авторские определения, синекдоха; для усиления эффекта используется синтаксический параллелизм.
Среди регулятивных средств преобладают олицетворение (персонификация) и синтаксический параллелизм как регулятивная структура. Сравним олицетворение машины и сопоставление ее с человеком: « Как нет изобретателя, который, / Чертя машину, ею не мечтал / Облагодетельствовать человека, / Так нет машины, не принесшей в мир / Тягчайшей нищеты / И новых видов рабства».
Машины называются автором «плененными исполинами», они сравниваются «со стихийными демонами, разнузданными рабами». Мощь, сила машин подчеркивается яркими регулятивными средствами и структурами: не только многочисленными персонификациями, сравнениями, но и инверсией и синтаксическим параллелизмом: «Как ученик волшебника, призвавший / Стихий- ных демонов, / Не мог замкнуть разверстых ими хлябей / И был затоплен с домом и селеньем – / Так человек не в силах удержать / Неистовства машины: рычаги / Сгибают локти, вертятся колеса, / Скользят ремни, пылают недра фабрик, / И, содрогаясь в непрерывной спазме, / Стальные чрева мечут, как икру, / Однообразные ненужные предметы <…>/».
По мнению М. А. Волошина, человек бессилен перед натиском машин: «И нет возможности / Остановить их ярость, / Ни обуздать разнузданных рабов». Итогом этого является то, что все стихии «ополчились против человека» : « В заоблачных высотах: / Земля и воды, воздух и огонь – / Все ополчилось против человека». Автор вновь и вновь подчеркивает, иронизируя, что чем больше развивается прогресс, тем больше кризис духовности: « И нищий с оскопленною душою, / С охолощенным мозгом торжествует / Триумф культуры, мысли и труда».
В целом концепт «хаос» многомерен, системно объединяя разные части поэмы в единую сложную регулятивную структуру, которая образно отражает историю эволюции жизни людей и предлагает своеобразную интерпретацию библейского сюжета и его развитие. Рассмотренные части поэмы раскрывают следующие смыслы: подчинение неодолимых стихий в части «Магия»; обуздание огня, заключенного в порохе («Порох»); сотворение человеком новой стихии от соприкосновения огня и воды («Пар»); стремление человека стать равным Богу сотворцом мира («Машина»). С точки зрения современного читателя, все это предвосхитило будущее, дав понять, что хаос есть начало и конец всего, а человек может только пребывать в иллюзиях контроля над ним. Вопреки общепринятому мнению, хаос и порядок, согласно концепции автора, внутренне связаны потому, что одно проистекает из другого . Хаос – первоэлемент бытия, а порядок или контроль человека над ним – это химеры. Трагедия же в том, что, осознавая прогресс материальной культуры, человек смотрит себе в душу и видит там бездну еще более страшную.
Текст поэмы насыщен изобразительновыразительными средствами до предела: почти каждое слово, каждый образ в поэме – это символ по своей сути. Автору присуща особая афористичность. Из регулятивных средств и структур доминируют олицетворения, нередко осложненные гиперболизацией, сравнения, развернутые метафоры, осложненные авторскими эпитетами, синонимами. Поэма представляет собой уникальный сплав философской мысли и поэтического таланта М. А. Волошина.