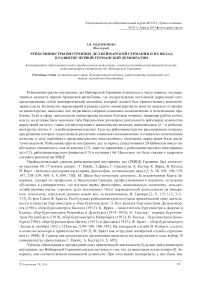Рейхсминистры внутренних дел Веймарской Германии и их вклад в развитие первой германской демократии
Автор: Евдокимова Татьяна Васильевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Личность, общество, государство: историко-методологический аспект
Статья в выпуске: 4 (31), 2014 года.
Бесплатный доступ
Анализируется образовательный и профессиональный уровни, а также политическая принадлежность рейхсминистров внутренних дел Веймарской Германии.
Политическая элита, веймарская республика, рейхсминистр внутренних дел, первая германская демократия
Короткий адрес: https://sciup.org/14822093
IDR: 14822093
Текст научной статьи Рейхсминистры внутренних дел Веймарской Германии и их вклад в развитие первой германской демократии
Рейхсминистерство внутренних дел Веймарской Германии относилось к числу важных государственных ведомств первой германской республики, где осуществлялась постоянная циркуляция элит, представлявшая собой демократический механизм, который должен был препятствовать монополизации власти. Количество перемещений в рамках одного министерства во многом завесило от профиля министерства, насколько оно затрагивало спорные социально-экономические и политические проблемы. Если в сферу деятельности министерства входили бытовые вопросы, например работа почты, или те, на которые было наложено табу Версальским договором (деятельность рейхсвера), количество циркуляций на посту главы соответствующего министерства являлось минимальным (5 – в рейхсминистерстве почты, 4 – в рейхсверминистерстве). Если же рейхсминистерство рассматривало вопросы, при решении которых существовали различные социально-экономические и социально-политические подходы, в силу партийного представительства многослойного электората, циркуляция была достаточно высокой. Рейхсминистерство внутренних дел за период существования 20 кабинетов имело наибольшую сменяемость глав ведомства (17), даже по сравнению с рейхсминистерством иностранных дел (12), рейхсминистерством финансов (13) и юстиции (16). Насколько это было связано с кадровым составом руководства МВД?
Профессиональный уровень рейхсминистров внутренних дел (РМВД) Германии был достаточно высоким. Из 17 человек семеро – Г. Пройс, Э.Давид, Г. Граднауэр, А. Кестер, К. Яррес, В. Кюльц, Й. Вирт – являлись докторами наук (права, философии, политических наук) [2, S. 58, 109, 158–159, 197, 258–259, 369; 4, S. 699, 738]; М. Шиле был почетным доктором. За исключением Карла Зе-веринга, слесаря по профессии, и Вильгельма Гренера, профессионального военного, остальные обучались в университетах, где изучали право, философию, национальную экономику, сельскохозяйственные науки, торговое дело, математику. Опыт парламентской деятельности на имперском, земельном, городском уровнях имели все, за исключением, В. Гренера [2, S. 112–113, 312– 313], В. фон Гайля Ф. Брахта. Ряд будущих рейхсминистров получили практический опыт деятельности в качестве бургомистров и обер-бургомистров: Э. Кох являлся бургомистром Дельменхорста (1901), обер-бургомистром Касселя (1913); К. Яррес – заместителем бургомистра в Дюрене и Кельне, обер-бургомистром Ремшайда и Дуисбурга (1914–1933); О. Гесслер – первым бургомистром Регенсбурга (1910), обер-бургомистром Нюрнберга (1913); В. Кюльц – бургомистром Бюке-бурга (1904), обер-бургомистром Циттау (1912) и Дрездена (1923); Ф. Брахт – обер-бургомистром Эссена (с октября 1932 г.) [Там же, S.99–100, 186–187]. На имперской службе В. Койдель состоял в качестве асессора в правительстве (1913); Ф. Брахт как сотрудник имперской службы страхования (с 1908); В. Гренер как руководитель организации производства вооружения в годы войны. В университетах преподавали Г. Пройс, А. Кестер [4, S. 695].
Уровень образования и предыдущий опыт практической деятельности будущих рейхсминистров внутренних дел Веймарской Германии свидетельствовал о том, что, за некоторым исключением (К. Зе-веринг), они соответствовали занимаемой должности. При этом важно подчеркнуть, у них были зна- ния и навыки, полученные в кайзеровской Германии. Поэтому проблема частой сменяемости РМВД заключалась не в их квалификации. Главным являлась их политическая принадлежность*.
Первые 7 РМВД являлись убежденными сторонниками парламентско-демократической системы, членами СДПГ и ГДП. Далее следовали члены правительства буржуазного блока с участием Шиле и Койделя от ГННП, Ярреса от ГНП, Гесслера и Кюльце, которые себя причисляли к ГДП. На смену буржуазным рейхсминистрам пришли бывший министр внутренних дел Пруссии, член СДПГ Зеверинг и его преемник от ПЦ Вирт, который до этого стоял во главе двух рейхскабинетов. Затем этот пост в правительстве Папена занял барон фон Гайль, в правительстве Шлейхера – Франц Брахт. Порой политические противоречия переплетались с религиозными, например, при принятии важных решений по школьному и религиозному вопросам.
Высшее чиновничество в МВД также испытывало влияние политических изменений. В 1919 г. Э. Давид призвал социал-демократа в качестве статс-секретаря в школьный отдел, Зольман – убежденного демократа Цвайгерта. Среди выдающихся личностей в МВД выделялся Арнольд Брехт, сменивший Койделя в качестве руководителя конституционного отдела в 1927 г [2, S. 40–41]. Конституционный отдел только краткий период находился под руководством Камеке, а потом его сменил сторонник СДПГ Менцель. В правительстве Папена Готхайнер был руководителем отдела. К убежденным республиканцам принадлежали члены министерского совета Хентцшель и Фальк (последний был обер-президентом в Магдебурге). К «старожилам» службы можно отности руководителя второго отдела, министериал-директора Дамманна, умевшего «сохранять спокойствие» в критических ситуациях.
Первым рейхсминистром внутренних дел являлся Г. Пройс, получивший имя «отца конституции». Веймарская конституция содержала 181 статью, 20 из которых относились к первым проектам Прой-са, а остальные являлись результатом компромисса между различными политическими силами, принимавшими участие в обсуждении будущего закона. Одной из главных невоплощенных идей Г. Прой-са была идея о создании единого государства. Выступая в Национальном собрании, где обсуждался данный вопрос, в качестве аргумента Пройс использовал фразу прусского реформатора фон Штейна, которого считал своим духовным отцом: «Я знаю только одно Отечество, оно называется Германия; поэтому я могу быть преданным всей душой только всей Германии, а не ее части» [9, S. 292]. Однако влияние Гуго Пройса измерялось не количественными показателями. Не без его влияния, Веймарская Германия была более унитарна, чем германский кайзеровский рейх. Статьи конституции, регламентировавшие деятельность рейхспрезидента, рейхскабинета и рейхстага, во многом были написаны им. Пройс внес значительный вклад в создание конституции», утверждал германский исследователь B. Апельт, определяя основные направления развития демократических основ конституции [1, S. 424]. Трудности реализации идей Пройса были связаны, как с конкретными обстоятельствами, так и с его нерешительностью, отсутствием способности руководить людьми, склонностью к догматизму [6].
После принятия конституции националисты охарактеризовали веймарское государство «еврейской властью» и сделали еврея Пройса, ответственным за недостатки нового германского государства. Относительно данных нападок по поводу ненемецкого происхождения конституции, Пройс заметил, что те, кто этим занимаются, сознательно призывают к антисемитизму, и если они хотят лично его облить этой грязью, то «я защищаю себя словечком Pfui (тьфу), которым Бисмарк выражал свое отвращение и презрение [10].
Г. Пройс уклонился от голосования в поддержку Версальского договора, но при формировании нового кабинета согласился, по просьбе рейхспрезидента Ф. Эберта, остаться на государственной службе в качестве рейхскомиссара до завершения обсуждения вопроса о принятии конституции.
Среди вышеназванных рейхсминистров внутренних дел и их статс-секретарей наиболее демократически ориентированной личностью и политиком являлся рейхсминистр внутренних дел А. Кестер, бывший рейхсминистр иностранных дел. Он занял данный пост во втором правительстве Й. Вирта при личном содействии рейхспрезидента, который был заинтересован в назначении конституционного рейхсминистра, пользовавшегося его доверием.
С точки зрения нового главы ведомства, главная задача министерства внутренних дел заключалась в оформлении республиканской государственной формы. Кестер переименовал первый отдел министерства, государственно-правовой, в отдел политики и конституции, или «конституционный отдел».
Стремясь создать круг единомышленников, Кестер отправил в отставку статс-секретаря Левальда, т.к. молодой Кестер не видел никаких возможностей сотрудничать с достаточно старым Левальдом и представлять вместе с этой личностью, получившей ранг «экселента» в период монархии, демократический порядок в Германии» [3, S. 370]. Статс-секретарем стал министериал-директор отдела государственного права барон фон Веслер, а на его место вступил бывший министериал-рат рейхсканцелярии А. Брехт, который на один год был моложе рейхсминистра. Кестер и Брехт вместе работали в рейхсканцелярии в 1918–1919 гг. Брехт зарекомендовал себя как профессиональный юрист в области управления, необычайно активный сотрудник и сторонник республики.
По воспоминаниям А. Брехта: «рейхсминистр внутренних дел взял на себя выполнение активной роли по оформлению нового образа жизни в государстве <…> от него исходила постоянная инициатива приблизить к немецкому народу идеалы и смысл демократических институтов, завоевать на свою сторону друзей демократии, защитить их от противников не только духовно, но, если надо, то и психологически; не только против большевиков (леворадикально настроенных лиц – Т.Е. ), против которых концентрировали свои силы старые служащие, а также представителей военной оппозиции справа» [3, S. 370].
Оба политика, являясь творческими личностями и психологически тонко чувствовавшими людей, осознавали необходимость формирования позитивного эмоционального восприятия гражданами нового государства. Большинство же населения, в отличие от создателей нового государства, жило прошлым. Им трудно было воспринимать гражданского главу государства в цилиндре. Республиканские пуритане первого часа не видели в этом особого смысла [5, S. 73.].
27 июня 1922 г. для формирования чувства принадлежности к государству, для самоидентификации немцев Кестер и Брехт устроили в зале заседания рейхстага пышное траурное празднество, посвященное гибели рейхсминистра иностранных дел В. Ратенау, убитого националистами после подписания Рапалльского договора. Это первое самовыражение республики произвело на окружающих огромное впечатление [3, S. 387].
Кестер был глубоко убежден, что укреплять государство необходимо не только с помощью законов и распоряжений, но также знаков и символов. Через два месяца после убийства В. Ратенау «Песня немцев» стала национальным гимном Германии. Кто был инициатором этого предложения, Брехт или Кестер, не ясно. Радбрух в своих воспоминаниях говорит, что активность Кестера после убийства Ра-тенау была на высшем уровне, что рейхсминистр внутренних дел был главным инициатором [7, S.160 – 161]; Брехт, что – он [3, S. 395]. Но это – не принципиальный вопрос. Кестер предложил исполнить третью строфу «Песни немцев» 11 августа 1922 г., в день провозглашения конституции в качестве национального гимна.
В своих воспоминаниях Брехт передал следующую реакцию общества на это событие: «Если этот рейхспрезидент (Ф. Эберт – Т.Е.) и это правительство (Вирт и Кестер – Т.Е.) после этих событий (убийств Эрцбергера и Ратенау – Т.Е.) объявили «Песню немцев» с третьей строфой национальным гимном и одновременно правильно ее интерпретировали, то за рубежом и внутри страны те, кто стоял правее правительства, этот шаг ложно истолковал и уничтожил его интегрирующее действие» [3, S. 395]. Таким образом речь шла о том, что и за рубежом, и внутри страны воспринимали не столь- ко строчки из третьей строфы «единство и право и свобода», сколько музыку «Песни» времен «золотого века» Германии.
Кестер, являясь сторонником реформистских взглядов, придерживался идеи эволюции. Для него возникновение современного государства являлось не результатом революционного единовременного акта, а было связано с длительным процессом, начатым войной, в ходе которой оно изменялось по своей сущности. Он видел «задачу германской демократии» в том, чтобы отстаивать «классическое немецкое понимание государства в противовес попыткам экономически его измотать и растереть в порошок». Кестер выразил готовность «защищать понятие государства от нападок и справа, и слева» [5, S. 76].
По отношению к служащим он не допускал никакого компромисса: они, по его мнению, должны прочно стоять на почве факта и врасти в землю. Рейхсминистр считал себя ответственным за то, чтобы новое государство своей новой формой «врастало в народ»: «государство без формы, государство без символа, – подчеркивал он, – это – не государство <...> говоря о национальном сознании, он представлял его только «демократическим или его не будет совсем» [5, S. 76].
На следующий день после убийства В. Ратенау Кестер предложил кабинету утвердить проект указа о защите республики, который подписал рейхспрезидент и который на следующий день был предложен рейхстагу рейхсминистром юстиции Радбрухом [8, S. 41]. Кестер не желал пользоваться 48 статьей конституции дольше, чем это требовалось. В срочном порядке в рейхминистерстве внутренних дел и рейхминистерстве юстиции начали разрабатывать закон по защите республики. Наряду с мероприятиями, направленными против экстремистских антидемократических сил, предполагалось создание нового органа конституционного строительства – государственной судебной палаты. Сложность в проведении этого закона заключалась не в голосовании рейхстага, а в федеративном устройстве рейха. Компетенции рейха в осуществлении мероприятий по обеспечению внутренней безопасности были ограничены. Из-за отсутствия полиции рейха при преследовании политических преступников рейхсминистр внутренних дел зависел как от помощи земель, так и от судебной власти. Политической заслугой Кестера и Радбруха являлось то, что проект закона в первом чтении был представлен уже 5 июля 1922 г. в рейхстаге, а потом прошел в рейхсрат.
При первом чтении данного закона кестер указал на трудности центральной власти: «я обращаю ваше внимание на то, насколько ограничены компетенции, которые имеет рейх в рамках веймарской конституции. У рейха нет исполнительной власти». При этом он подчеркнул, что рейхсминистр внутренних дел не имеет права вмешиваться в суверенитет земель и что у него нет прав по надзору за землями. Чрезвычайно важным, с точки зрения кестера, являлось то, что закон о защите республики создавался не на время, он должен был действовать на протяжении длительного срока, пока существует опасность республике. При этом кестер высказал положение, которое позволяет подчеркнуть его существенное отличие от «авторитарных демократов» последней фазы веймарской республики. Он говорил: «правительство считает, что оно должно править как можно реже и как можно более непродолжительно с помощью 48-ой статьи веймарской конституции. Нам требуются мероприятия на длительный период времени». Заканчивая свое выступление, он использовал образное выражение: «мы не хотим ждать, когда республике перережут глотку. Не важно, будет ли дальше жить тот или другой рейхсминистр; но важно то, чтобы эта страна жила. Эта страна в опасности. Мы находимся в состоянии борьбы. Правительство ожидает, чтобы каждый исполнял свой долг и выполнял свои обязанности». 18 июля 1922 г., по инициативе кестера, в рейхстаге были приняты закон по защите республики, закон о криминальной полиции и некоторые другие [5, S. 83]. Кестер был безусловным сторонником новой германской республики в ее демократической форме [Там же, S. 163], но таких защитников германской демократии по мере трансформации политического режима становилось все меньше.
Неблагоприятные условия рождения первой германской демократии, которая ассоциировалась с национальным позором поражения в Первой мировой войне и провозглашением нелюбимой республики, сохранившаяся правовая культура кайзеровских времен в сознании большинства населения созда- ли неблагоприятную почву для демократизации страны. Решение задач по внутриполитической стабилизации в 1919–1933 гг. было затруднено в силу наличия конституционно-правовых ограничений деятельности рейхсминистерства внутренних дел, а также перманентных кризисных ситуаций, особенно в начале и в конце существования республики. Личностный фактор только на отдельных этапах мог смягчить данное положение.
Список литературы Рейхсминистры внутренних дел Веймарской Германии и их вклад в развитие первой германской демократии
- Apelt W. Geschichte der Weimarer Verfassung. München: Biederstein, 1946.
- Biographisches Lexikon zur Weimarer Republik/hrsg. von W. Benz. München: Graml H, 1988.
- Brecht A. Aus nächster Nahe. Lebenserinnerungen 1884-1927. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1966.
- Das Deutsche Reich von 1918 bis heute/hrsg. v. C. Horkenbach. Bd. 1-Berlin: Verlag für Presse, Wirtschaft und Politik. 1930.
- Doß K. Reichsminister Adolf Köster. 1883-1930. Ein Leben für die Weimarer Republik. Düsseldorf: Droste Verlag, 1978.
- Gillessen g. Hugo preuß. Studien zur ideen-und verfassungsgeschuchte der weimarer republik freiburg, 1955.
- Radbruch G. Der innere Weg. Aufriß meines Lebens. Stuttgart: Koehler, 1951.
- Stockhausen M. von. Sechs Jahre Reichskanzlei: von Rapallo bis Locarno. hrsg. v. Görlitz W. Bonn: Athenäum-Verlag, 1954.
- Verhandlungen der verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung. Stenographische Berichte. Berlin, 1919 Bd. 326.
- Vossische Zeitung. 1924. 16 Feb.