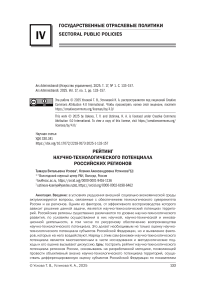Рейтинг научно-технологического потенциала российских регионов
Автор: Тамара Витальевна Ускова, Ксения Александровна Устинова
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Государственные отраслевые политики
Статья в выпуске: 1 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: в условиях ухудшения внешней социально-экономической среды актуализируются вопросы, связанные с обеспечением технологического суверенитета России и ее регионов. Одним из факторов, от эффективного воспроизводства которого зависит решение данной задачи, является научно-технологический потенциал территорий. Российские регионы существенно различаются по уровню научно-технологического развития, по условиям осуществления в них научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе по ресурсному обеспечению воспроизводства научно-технологического потенциала. Это делает необходимым не только оценку научно-технологического потенциала субъектов Российской Федерации, но и выявление факторов, которые на него воздействуют. Наряду с этим сам феномен научно-технологического потенциала является многоаспектным в части исследования и методологические подходы к его оценке вызывают дискуссию. Цель: построить рейтинг научно-технологического потенциала регионов России, основываясь на разработанной методике, позволяющей провести объективный анализ научно-технологического потенциала территорий, осуществить дифференцированную оценку субъектов Российской Федерации по показателям науки и технологий. Методы: сравнение методик оценки научно-технологического потенциала и научно-технологического развития регионов, многомерный сравнительный анализ на основе интегрального подхода для определения уровня научно-технологического потенциала. Результаты: структурированы теоретические концепции, в рамках которых исследуется развитие регионов и факторы, обусловливающие этот процесс. Показана полярность положений этих концепций в двух направлениях: 1) вмешательство/невмешательство органов власти в экономические процессы; 2) сближение/отсутствие сближения между регионами по показателям социально-экономического развития. Выявлена дискуссионность в отношении методических подходов к оценке научно-технологического и инновационного развития субъектов Российской Федерации. Показано, что, несмотря на сходство их целевого назначения, существуют различия, которые вызваны разницей в информационных источниках, в применяемых типах данных (статистические данные или ведомственные данные и результаты экспертных опросов), а также в открытости и доступности показателей для анализа. Выделены группы регионов по уровню развития в них научно-технологического потенциала. Выводы: большинство субъектов Российской Федерации характеризуются научно-технологическим потенциалом «ниже среднего» в связи с аналогичным уровнем составляющих, входящих в его структуру. Сходная ситуация – в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, в том числе в Вологодской области. В последней возможности для реализации научно-технического потенциала связаны с наличием потенциала в части исследований и разработок, а препятствием выступает кадровое и финансовое обеспечение.
Регион, технологический суверенитет, научно-технологическое развитие, научно-технологический потенциал, цепочки создания стоимости, межрегиональная кооперация
Короткий адрес: https://sciup.org/147247375
IDR: 147247375 | УДК: 330.341 | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-1-133-157
Текст научной статьи Рейтинг научно-технологического потенциала российских регионов
Эта работа © 2025 Усковой Т. В., Устиновой К. А. распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите
This work © 2025 by Uskova, T. V. and Ustinova, K. A. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit licenses/by/4.0/
Ухудшение внешнеэкономической ситуации, которое наблюдалось после 2014–2015 годов и в 2022 году стало следствием усиления санкционного давления, привело к необходимости решения масштабных национальных задач сначала по импортозамещению, а в дальнейшем и по технологическому суверенитету. При этом достижение технологического суверенитета России связывается с владением критически важными для конкурентоспособности государства технологиями1 и способностью их самостоятельного создания, а также с внедрением технологических и инновационных разработок по различным направлениям деятельности (Афанасьев, 2022, с. 2197). Сходные посылы содержатся в Послании Президента Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года, где подчеркивается необходимость «наращивания научного, технологического, индустриального потенциала страны». Подобные изменения должны затрагивать не только экономическую, но и другие сферы и будут сопровождаться тем, что «экономика станет более сложной, технологичной, а значит, гораздо более устойчивой»2.
Наряду с практической значимостью исследования стоит отметить и научную. Последняя связана с сохранением дискуссионных вопросов в части изучения научно-технологического потенциала ввиду многоаспектности и многоплановости рассматриваемого явления. Гипотеза настоящего исследования заключается в том, что изменение регионального научно-технологического потенциала обусловлено динамикой множества взаимосвязанных показателей, а потому текущая его оценка предполагает формирование интегрального показателя.
Отметим, что распространены разные способы оценки научнотехнологического потенциала, использующие как отдельные показатели, так и интегральные индексы. Преимущество применения последних связывается с возможностью не только характеристики научно-технологического потенциала в целом, но и анализа его отдельных составляющих. Наряду с этим следует подчеркнуть, что подобное исследование может проводиться и на уровне страны в целом, и на уровне отдельных федеральных округов и регионов, а результаты такого мониторинга научно-технологического потенциала могут выступать в качестве основы для принятия управленческих решений.
Цель исследования – построить рейтинг научно-технологического потенциала российских регионов, основываясь на разработанной методике, использование которой позволяет провести объективный анализ научнотехнологического потенциала территорий, осуществить дифференцированную оценку субъектов Российской Федерации по показателям науки и технологий. В свою очередь проведение такого анализа предполагает реализацию ряда этапов, связанных с изучением теоретических основ исследования, осуществлением сопоставительного анализа методических основ научнотехнологического потенциала, идентификацией уровня его развития, выявлением факторов, обусловливающих его воспроизводство. Работа основывается на трудах исследователей, официальных статистических данных и данных рейтинговых агентств.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вопросы, связанные с социально-экономическим развитием регионов, с их дифференциацией по разным параметрам, приобрели актуальность как в научных кругах, так и в практике федерального и регионального управления. В рамках их изучения и обсуждения на первый план выходят не только сами социально-экономические процессы, но и факторы, их предопределяющие. Обозначенные вопросы нашли свое отражение в различных теориях и концепциях, среди которых теории регионального роста и развития, оформившиеся в XIX – середине XX века, неоклассические и кумулятивные концепции регионального развития, а также новые теории регионального экономического роста и развития (Земцов и др., 2021).
В классической концепции , одним из представителей которой является А. Маршалл, затрагиваются вопросы о достижении баланса между спросом на факторы производства и предложением, а также о факторах размещения производства (Feser, 1998, p. 30–31). Эти положения получили дальнейшее распространение в неоклассических концепциях , акцентирующих внимание на предпосылках экономического роста, среди которых и производственный потенциал территории. Наряду с этим выделяются природно-ресурсный, трудовой потенциал и материально-техническая база. В рамках неоклассических концепций, в частности в теории экономического роста Дж. Бортса, поднимаются вопросы выравнивания параметров экономического развития отдельных территорий, в том числе вследствие изменения стоимости факторов производства (Dawkins, 2003, p. 136). Это соотносится с положениями модели конвергенции Р. Солоу.
Полярной к неоклассической концепции является структурноинновационная концепция регионального развития , которая опирается на положения инновационной теории Й. Шумпетера и в конце 1970-х годов получает дальнейшее развитие в трудах Б.-О. Лундвалла, Р. Нельсона и К. Фримэна (Басов и Илюхина, 2009, с. 57–58). Основная идея этой концепции сосредоточена вокруг государственной поддержки отраслей и социальной сферы посредством различного стимулирования представителей перспективных направлений деятельности. Это, в свою очередь, может способствовать обеспечению структурных изменений на основе внедрения инноваций для преобразования производственной и других видов деятельности.
Еще одна особенность описанных концепций, наряду с полярностью их положений, связана с их вниманием к разным аспектам, например к факторам производства. В неоклассической концепции Ч. Холла, разработанной в соавторстве с Р. Джонсом , сделан акцент на факторах экономикогеографического положения, политической и институциональной природы, инфраструктурного обеспечения. Одновременно внимание в ней сфокусировано на воздействии этих факторов на социально-экономическую дифференциацию территорий и на изучении различий в их социально-экономическом положении (Illeris, 1993, p. 122).
Выделение факторов и их дифференциация осуществляются не только по экономическим, но и по социальным признакам. В частности, в концепции
Х. Зиберта речь идет о рассмотрении, наряду с традиционными факторами – трудом, землей и капиталом, факторов социальной природы, и прежде всего знаний (Гаджиев, 2009, с. 48). Обозначенные положения развиты в концепции Ц. Грилихеса, П. Ромера и Ф. Лихтенберга , где предложена производственная функция знаний с учетом «капитала знаний» (Griliches and Lichtenberg, 1982; 1984). Эти идеи получили распространение в трудах Т. Бренера и Т. Бре-келя, анализирующих капитал знаний и его структуру, а при характеристике капитала знаний выделяющих отдельные группы населения, например инноваторов, вносящих наибольший вклад в технологическое развитие территорий (Broekel and Brenner, 2011; Broekel et al., 2015).
Близка к обозначенным выше концепция креативного класса Р. Флориды (Rodríguez-Pose and Crescenzi, 2008, p. 54), в которой исследуются представители креативного класса с точки зрения их вклада в развитие региональной экономики, обращается внимание на отдельные группы населения и их характеристики, в том числе креативность, связанную с созданием нововведений для различных направлений деятельности. В теоретических положениях сделан акцент как на создании инноваций, так и на их распространении.
В модели Т. Хегерстранда адаптированы теоретические положения диффузии инноваций Э. Роджерса в части учета пространственных аспектов. Показано, что скорость распространения инноваций будет тем выше, чем больше плотность социальных связей (Hägerstrand, 1968, p. 133–134). Таким образом, можно утверждать, что территориальная близость городов положительно сказывается на распространении нововведений (Schlunze, 2002, p. 267–268). В концепции инновационных сред Ф. Айдало внимание также сосредоточено на диффузии инноваций и факторах, обусловливающих этот процесс. Среди последних выделяются параметры инновационной среды, а также институциональные аспекты, связанные с деятельностью научно-исследовательских центров (Украинский, 2011, с. 106–107).
Необходимость формирования условий для развития предпринимательской среды, распространения полученных положительных эффектов подчеркивается в концепции полюсов конкурентоспособности , основанной на положениях неоклассического подхода и не предполагающей сильного вмешательства государства в экономику (Украинский, 2011, с. 97; Frémont, 1993, p. 35). О создании наиболее благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности идет речь и в концепции конкурентного федерализма , сформированной в конце 1990-х годов и исследующей региональную конкуренцию. Создание благоприятных для предпринимательства условий связывается с инвестированием в перспективные отрасли экономики, с развитием институциональных основ (например, налогового законодательства), включая вопросы льготного налогообложения, а также производственнотехнологические вопросы по предоставлению товаров и услуг необходимого качества (Пахомов и Лымарева, 2021, с. 192–193).
В данной работе показано, что эволюция концепций сопровождается не только расстановкой разных акцентов при изучении развития территорий, но и расширением трактовок факторов экономического развития: если изначально учитывались только традиционные факторы (труд, капитал и др.), то впоследствии список факторов был расширен (капитал знаний, параметры инновационной среды, распространение инноваций, институциональные аспекты и др.). В статье также сделан вывод о том, что в современных концепциях внимание сфокусировано не на отдельных факторах, определяющих социально-экономические изменения, а на взаимоучете и взаимообусловленности факторов разной природы – экономических, социальных, институциональных, культурных и др. Обозначенные выше аспекты исследования справедливы и в случае, когда речь идет об анализе научно-технологического потенциала. В связи с многогранностью данного понятия и разноакцентиро-ванностью его составляющих исследование научно-технологического потенциала территорий требует применения комплексного подхода – с учетом структурных компонентов, а также в территориальном разрезе и с учетом динамики показателей.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен сравнительный анализ нескольких методик3. Было выявлено сходство между отдельными методиками – например, методикой расчета рей-тингаинновационного развитиясубъектов Российской Федерации(НИУВШЭ) и методикой расчета рейтинга научно-технологического развития субъектов Российской Федерации (Институт экономики РАН, ИЭ РАН): наличие в обеих блока показателей, характеризующих научно-технологический потенциал регионов, а также блока показателей, связанных с инновационной деятельностью в регионах. В то же время были обнаружены и различия: например, если в методике Вологодского научного центра (ВолНЦ) РАН учитываются «кадры» и «технологии», то в методике Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) принимаются во внимание социально-экономические условия осуществления инновационной деятельности.
Полученные результаты позволили определить наиболее уязвимые по выделенным параметрам4 методики: методику национального рейтинга (Минобрнауки России), а также методику расчета рейтинга инновационной активности регионов России (АИРР). Что касается методики национального рейтинга, то в исследовании (Кузнецова, 2023, с. 97) о нем приводятся критические замечания, которые связаны с отсутствием «какого-либо обоснования выбранных подходов к расчету интегрального рейтинга. И дело не только в произвольном разделении показателей по блокам, не всегда однозначном выборе способа перевода исходных показателей в балльные, но и в весах».
В указанных методиках используются не только официальные статистические и ведомственные данные, но и результаты экспертных опросов, что может негативно сказываться на открытости данных и достоверности результатов анализа. Меньшей уязвимостью обладают методики ИЭ РАН и НИУ ВШЭ, в первую очередь за счет бóльшей своей открытости и достоверности используемых информационных источников.
Наилучшие позиции в этом перечне занимает методика ВолНЦ РАН, основанная на применении комплексного подхода, в рамках которого оценка научно-технологического потенциала предполагает учет как ресурсных, так и результативных аспектов. В контексте данного подхода обозначенные выше составляющие совмещаются, и в этом – его отличие от остальных подходов, в которых акцент сделан либо на тех, либо на других. Применение ресурснорезультативного подхода влияет на отбор показателей для оценки научнотехнологического потенциала территорий: в работе учитываются параметры, с использованием которых отражаются ресурсные, процессные и результирующие моменты. Наряду с этим при построении интегрального показателя научно-технологического потенциала территорий принимаются во внимание и содержательные аспекты: используемые для исследования показатели разбиваются на четыре блока: «исследования и разработки», «кадры», «технологии» и «инновации» (табл. 1). Применение данного подхода вызвано рядом обстоятельств, среди которых следующие: комплексность исследования, разносторонность учета составляющих научно-технологического потенциала, возможность их сравнительного анализа за счет сопоставимости и использования относительных показателей, возможность количественной оценки уровня научно-технологического развития и осуществления ранжирования территорий. В данном исследовании мы сосредоточили свое внимание на обсуждении результатов, посвященных вопросам интегрального показателя «научно-технологический потенциал», а также его составляющим, связанным с исследованиями и разработками, а также с технологиями. Придерживаемся позиции о том, что развитие данных составляющих создает предпосылки для развития научно-технологического потенциала в целом. Наряду с этим усложнение доступа к новым технологиям сопряжено с вопросами достижения и поддержания технологического суверенитета. А перспективы экономического роста зависят от адаптации технологий, улучшения условий ведения бизнеса, диверсификации экономики (Voskoboynikov, 2023, p. 308–310).
Методические основы проведенного исследования были содержательно представлены ранее в ряде публикаций, в частности в монографии К. А. Гулина и его соавторов (Гулин и др., 2017). Для апробации методики предполагалось последовательно реализовать ряд этапов, а именно:
– отбор индикаторов, их разделение на блоки;
– унификация данных официальной статистики (приведение к сопоставимому виду, пригодному для оценки);
– реализация метода главных компонент по значениям частных критериев апостериорного набора показателей для построения информативной системы научно-технологического потенциала, оценка силы причинно-следственной связи между факторами;
Таблица 1 / Table 1
Показатели оценки научно-технологического потенциала / Indicators for assessing scientific and technological potential
|
Показатель |
Исследования и разработки |
Кадры |
Технологии |
Инновации |
|
Ресурсный |
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте (ВРП), % |
Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на образование на 10 тыс. населения, млн руб. |
Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам затрат (приобретение оборудования) на 10 тыс. населения, тыс. руб. |
Затраты на технологические инновации на 10 тыс. населения, млн руб. |
|
Процессный |
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на 10 тыс. населения, чел. |
Численность аспирантов и докторантов на 10 тыс. населения, чел. |
Используемые передовые технологии на 100 тыс. населения, шт. |
Инновационная активность организаций, % |
|
Результирующий |
Поступление патентных заявок и выдача патентов в России (выдано патентов на изобретения и полезные модели) на 100 тыс. населения, шт. |
Численность исследователей с ученой степенью на 10 тыс. населения, чел. |
Разработанные передовые технологии на 1 млн населения, шт. |
Объем отгруженной инновационной продукции на 10 тыс. населения, млн руб. |
Источник: таблицы 1–2 составлены авторами.
– определение весовых коэффициентов для критериев из апостериорного набора;
– определение значений индекса для выделенных блоков;
– построение мультипликативного интегрального показателя научнотехнологического потенциала регионов.
Характеризуя отдельные этапы исследования, отметим необходимость унификации данных официальной статистики, учитывая монотонно возрас-тающую/убывающую связь показателя по отношению к результирующему признаку (увеличение фактора ведет к росту рассматриваемого явления). Далее определяются весовые коэффициенты для критериев из апостериорного набора на основе ковариационной матрицы апостериорного набора уни- фицированных частных критериев и осуществляется построение интегрального показателя научно-технологического потенциала российских регионов с использованием оценки общей дисперсии.
Для интерпретации результатов расчета мультипликативного интегрального показателя научно-технологического потенциала нами предложена следующая шкала (табл. 2.). Пороговые значения рассчитанного показателя находятся в пределах от 0 до 10. Следовательно, можно выделить пять уровней развития научно-технологического потенциала.
Таблица 2 / Table 2
Шкала уровня развития научно-технологического потенциала российских регионов / Scale of the scientific and technological potential development level of Russian regions
|
Значение индекса |
Уровень научно-технологического потенциала |
|
[8; 10] |
Высокий |
|
[6; 8] |
Выше среднего |
|
[4; 6] |
Средний |
|
[2; 4] |
Ниже среднего |
|
[0; 2] |
Низкий |
Высокий уровень развития научно-технологического потенциала региона предполагает наличие самых высоких среди исследуемых субъектов Российской Федерации значений показателей в области науки, образования, инноваций, технологий и инфраструктуры. В регионах с интегральным индексом «выше среднего», находящимся в пределах второго интервала, значения показателей в целом довольно высокие, а по некоторым из блоков достигают максимально возможной оценки. Средним уровнем развития научнотехнологического потенциала характеризуются субъекты Российской Федерации с высокими значениями показателей по одним блокам, но в то же время сильно отстающие по другим, в результате чего общая оценка смещается в сторону средней величины. Индекс «ниже среднего» имеют регионы, где научно-технологический потенциал практически отсутствует: значения всех показателей низкие. Территории, входящие в группу с низким уровнем научно-технологического потенциала, находятся в стадии стагнации, иначе говоря, в них сложилась критическая ситуация: значения индекса являются наименьшими из возможных либо равны нулю.
Сопоставительный анализ методик позволил выявить, что представленная выше методика соответствует критериям открытости, доступности, учитывает основные составляющие научно-технического потенциала территорий, позволяет выделить имеющийся набор показателей с разных позиций (группы ресурсных и результативных показателей).
В целом же следует добавить, что по результатам обзора методических основ отечественных и зарубежных исследований можно заключить, что существуют методики с акцентом либо на различных сторонах рассматриваемого явления, либо на их синтезе. Дискуссионность обусловлена разницей в методических подходах, в способах агрегирования индикаторов, в составе используемых для анализа показателей (Митяков и др., 2017, с. 97).
Ограниченность в части применяемых показателей проявляется по двум направлениям: во-первых, их использование не позволяет в полной мере проанализировать качественные характеристики изучаемого объекта (Жихарева, 2019, с. 50–51; Жихарева, 2020, с. 127); во-вторых, показатели характеризуют скорее уровень социально-экономического развития как таковой, чем научно-технологический и инновационный потенциал (Баринова и Земцов, 2016, с. 15).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Решение задачи по достижению технологического суверенитета связано с накоплением и эффективным использованием научно-технологического потенциала, с наличием научной, кадровой и финансовой основы для создания и применения критических и сквозных технологий, с формированием условий для высокой инновационной активности экономических субъектов.
Анализ научно-технологического потенциала российских регионов позволил выявить регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры. Следует заметить, что многие субъекты Российской Федерации по уровню научнотехнологического потенциала занимают положение «ниже среднего»: в разные годы в рамках рассматриваемого диапазона насчитывалось от 58 до 63 территорий. В эту группу входит и часть субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО): Новгородская, Архангельская, Вологодская области, а также Республики Карелия и Коми (табл. 3).
Вологодская область за рассматриваемый период ухудшила свои позиции, что проявилось в отрицательном темпе роста интегрального показателя – снижение на 4,74 %, или с 3,17 до 3,02 ед. (табл. 4), а также в том, что по значениям индекса научно-технологического потенциала регион существенно уступает территориям-лидерам в СЗФО: Санкт-Петербургу, Ненецкому автономному округу, а также Мурманской области. В то же время в шести регионах СЗФО наблюдалась положительная динамика, причем наибольшие темпы роста показали Архангельская область, Республика Коми и Республика Карелия – 146,26, 107,36 и 106,27% соответственно.
По показателю «исследования и разработки» как составляющей, которая закладывает основу для реализации научно-технологического потенциала, Вологодская область в динамике демонстрировала положительный тренд. Входя, наряду с большинством регионов СЗФО, например Новгородской, Мурманской, Архангельской областями, Республиками Карелией и Коми, в группу территорий со значением показателя «ниже среднего», она, однако, в рамках рассматриваемого периода улучшила свое положение, поднявшись по этому показателю до 42-й позиции с 71-й и 73-й в 2010 и 2015 годах соответственно (табл. 5).
|
© s о к о О о гм |
о |
+ |
гм + |
+ |
см |
о |
+ |
о + |
04 СМ + |
’Я + |
'Я + |
о + |
'Я + |
ГМ 1 |
40 + |
СО |
40 + |
О |
40 + |
|||
|
к о ( ГМ N О гм |
S « о К |
гм |
m |
LT) |
40 |
ь |
СО |
04 |
о |
ГМ я |
о |
гм |
к |
Я |
LT) |
40 |
со |
04 |
||||
|
я 4) И я S |
04 оо со |
00 |
40 о СО |
00 |
СМ |
СО 00 4О~ |
о 40 40 |
40 О 40 |
04 'Л LT? |
Ln 'Л LO |
ГМ |
? гм |
Ln гм гм |
гм гм |
40 гм |
LH оо |
Г- |
К |
'Я я^ |
о |
04 40 o' |
|
|
к о ( о гм о гм |
я « о К |
гм |
m |
LH |
40 |
ь |
СО |
2 |
^ |
3 |
я со |
гм |
ь |
00 |
04 |
00 |
о со |
Ln со |
00 |
40 СО |
||
|
я 4) И я S |
о со |
ем о> |
СО |
^ 40 |
О о 40 |
СО гм |
LH 04 LT? |
Я LT? |
LH Я |
5 я" |
гм я^ гм |
сП |
2 гм |
гм гм |
СО 'Л |
со 'Л |
04 Ю„ |
со |
LO <о |
40 о~ |
||
|
к ( in о гм |
Я « о К |
гм |
m |
LO |
ь |
со |
40 |
Ln |
04 |
к |
40 со |
гм 40 |
со Ln |
со |
О со |
гм со |
00 |
я со |
я |
00 |
||
|
я 4) И я S |
о о> со |
40 О |
со 'Л |
ГМ LH 4О~ |
к LT? |
00 4О~ |
5 LT? |
О 40 |
я |
Я? |
гм гм |
2 |
04 Я^ ГМ |
гм |
к |
гм ю„ |
я 'Л |
40 Я~ |
СП |
со 04 |
Ln 00 o' |
|
|
к ( о о гм |
я « о К |
m |
гм |
40 |
со |
ь |
Ш |
чо |
О см |
ь |
я со |
Ln |
гм со |
г- |
гм 40 |
00 |
00 40 |
00 |
со |
Ln со |
||
|
я 4) И я S |
чо со 04 |
гм |
LH со |
О 00 4О~ |
40 гм 40 |
04 ГМ |
СО 40 |
04 04 40 |
см 00 я" |
'Я ’Я я" |
со гм |
8 |
40 |
СП |
00 40^ |
00 Я^ ГМ |
ГП |
ГМ гм |
со <о |
я 40^ |
о |
|
|
S Он |
d я о |
Я cd Я 40 О « ЕС О Он о S X |
Он 40 Он О С к cd и |
Я cd Я 40 О 3 |
й cd Я 40 О Я cd W Я О к я л £ |
Й cd Я 40 О 3 « я о й о |
й cd я 40 о я cd « Он 40 S о Я О К |
Й cd Я 40 О я cd * * Я cd X |
>s cd Он Й ’S S « Он <и с |
к я Он cd Е^ cd « S Я 40 с О Он |
й cd я 40 о о о я о со |
я S cd « cd X cd « S Я 40 с
|
й cd Я 40 О 3 « я о й С |
й cd я 40 о 3 к S я cd И cd и |
я о я и: < cd « S Я 40 с О Он |
к я cd Ч cd « S Я 40 с О Он |
cd * S Я 40 к О Он 3 к О Я О 2 |
’S cd Я < cd * S Я 40 к
Он |
я S О 2 cd Й S Я 40 к О Он |
о ’S к о К О я cd ’S S W я О к О X |
о ’S я к о к о я cd О S о £ |
|
Таким образом, в части исследований и разработок Вологодская область демонстрирует наличие потенциала для научно-технологических преобразований на региональном уровне. Но для того, чтобы накопленный потенциал был реализован, следует создавать условия.
По технологическому направлению Вологодская область среди других субъектов Российской Федерации показала отрицательный тренд – снижение возможностей в части проявленности данной составляющей научнотехнологического потенциала. Как и большинство регионов СЗФО, по значениям показателя «технологии» эта область входила в группу «ниже среднего», однако за рассматриваемый период территория ухудшила свое положение на 13 позиций, опустившись в общем рейтинге регионов с 23-го на 36-е место, или с 3,59 до 3,38 ед. (табл. 6). Подобные изменения соотносятся и с общероссийским трендом. Так, за рассматриваемый период количество регионов в верхней группе по этому показателю к 2022 году сократилось с 6 до 4, а по максимальному значению субиндекса «технологии» – с 7,39 до 6,90 ед. Однако в Вологодской области, с учетом ее положительной динамики по направлению исследований и разработок, негативный тренд по технологическому направлению косвенно может свидетельствовать о проблемах с реализацией накопленного потенциала.
Следует подчеркнуть, что научно-технологический потенциал в целом и технологические аспекты в частности выступают существенными факторами, от степени развития и проявленности которых зависит длина цепочек создания добавленной стоимости. Предполагаем, что чем выше уровень развития научно-технологического потенциала, тем длиннее может быть цепочка добавленной стоимости и тем выше, соответственно, добавленная стоимость, которая может быть сформирована по итогу. Справедливо и обратное (Лукин, 2022, с. 30).
Кроме того, следует отметить, что вопрос создания цепочек добавленной стоимости сопряжен с проблематикой производственной кооперации. Потенциал создания все большей добавленной стоимости может быть сформирован за счет организации и осуществления межрегиональной кооперации, в особенности по вопросам научно-технического сотрудничества. Такое взаимодействие может быть не только организовано, но и укреплено с опорой на разработанные стратегии, в которых представлены механизмы развития интеграционных процессов (Lukin and Uskova, 2023, p. 323).
Анализ фактических данных свидетельствует, что возможности для инновационных изменений и реализации научно-технологического потенциала во многом связаны с наличием финансовых ресурсов для этих целей. В Вологодской области с 2010 по 2022 год уровень инновационной активности организаций увеличился с 7,4 до 9,2 % (рис. 1). Однако как в начале рассматриваемого периода, так и в конце он был ниже, чем по СЗФО и по России в целом (для справки: по СЗФО уровень инновационной активности изменился с 9,4 до 10,6 %, а в России – с 9,5 до 11 % (Мазилов, 2016, с. 520)). Обращает на себя внимание и взаимосвязь инновационной активности и доли внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП. Судя по данным на рисунке 1, снижение инновационной активности во многом сопряжено с ухудшением финансового обеспечения исследований и разработок. Вместе с тем справедливо и обратное.
|
= о н |
00 + |
+ |
V |
eq |
+ |
00 + |
ко |
+ |
+ |
се |
00 |
eq + |
КП 1 |
о |
LO + |
00 + |
|||
|
к о ( eq N о |
к S я м с к |
eq |
m |
Я |
LT) |
ко |
ь |
00 |
ок |
О |
ко се |
о |
eq |
к |
Ln |
ко |
|||
|
4) к я S |
О ок КО |
КО |
КО |
КО |
О ок Ln |
ко оо Ln |
LT? |
ок ’Я' Ln |
2 Ln |
о Ln |
00 се се |
МО eq |
О eq |
ко о~ eq |
КП о~ eq |
О О' eq |
О |
ед ^ |
|
|
к о ( о N о N |
я я я « с К |
о |
-н |
Г- |
m |
2 |
ко |
^ |
Ln |
eq |
О eq |
се се |
ко |
'Я |
Ln 00 |
о |
eq 00 |
ь |
|
|
я 4) И я S |
о Ln |
Г? ко |
eq я^ Ln |
LT) ко |
КО ^ |
я Ln |
00 оо Ln |
Ln |
о я |
LT) ^ |
се ^ се |
о eq |
Ln eq |
eq eq |
ко -я |
оо |
ко КО' |
00 ок |
|
|
К © ( ш о N |
я « К |
2 |
-н |
Г- |
LT) |
ОК |
’Я eq |
m |
ко |
eq |
О |
ко се |
ок |
о |
eq |
ь |
о ко |
Ln |
00 |
|
я 4) И я S |
я КО ’f |
00 ко' |
Ln Ln |
OK о ко' |
Ок ^ |
3 |
ко КО ко' |
О ок Ln |
^ оо |
К я" |
ш се се |
in |
о eq |
о ок |
eq ^ |
eq О' eq |
Ln ок eq |
о |
|
|
к (о о N |
я я я я « К |
ОК |
LT) |
eq |
eq |
ед |
’Я eq |
^ |
о ’Я |
се eq |
eq ко |
2 |
КО |
Ln |
о 00 |
00 |
|||
|
4) К я S |
00 00 ’f |
ко 00 ко' |
eq ко' |
ко О ко' |
се ^ |
ок ‘Л |
се |
К Ln |
о ок eq |
я ок |
ок in се |
МО eq |
я 00 o' |
00 ок |
см |
00 оо |
eq |
ко o' |
|
|
S ^ |
Я cd я ко О « £ |
к ко с к и |
cd Я « О |
Я S я cd ^ cd S я ко К (X |
я cd Я ко о я cd * О й о S |
’S cd Он Й ’S Он С |
я cd Я ко О Я cd * ЯС О Он о S к |
Я cd Я ко О Я cd * * Я cd ^ |
К Он cd Е^ cd « S Я ко С Он |
я cd Я ко О Я cd W Я cd Я О Он |
л я я ю о й и к 0 я м |
’S cd Он Й ’S S я я о к о Он я cd О |
’S cd Я < cd « S Я ко С <о Он |
я cd Я ко О Я cd К О о я cd ’S Он Я щ |
Он 3 Он Я cd ^ 6 Он Я cd W О S Я ^ ^ О |
я S я Он я cd « S я ко С <о Он |
к' Он 3 Он F 6 cd н S кй \О |
я S <и о к Он я о и cd § § О я >^ cd к ^ Он 1 |
|
|
= о н |
сч |
* + |
ко + |
|
|
к о ( п N о |
к Я я м с к |
ь |
00 |
ок |
|
4) к я S |
ок |
сч о |
00 LOJ o' |
|
|
к о ( о N о N |
я я я « с К |
2 |
00 |
ко 00 |
|
я 4) И я S |
3 |
СО o' |
LT) 00 o' |
|
|
К © (- ю о N |
я « К |
ко |
00 |
ко 00 |
|
я 4) И я S |
LT) °°А |
ок ко o' |
^ o' |
|
|
к (о о N |
я я я « К |
LT) |
LT) 00 |
|
|
4) К я S |
3 |
LT) o' |
||
|
Я CU |
cd и cd « S Я о и CU |
S си cd « S я о с си |
я s
2 cd Й S Я Ю И
Си |
|

---- Доля внутренних затрат на исследования и разработки, % к ВРП
Рис. 1. Инновационная активность организаций Вологодской области (%) и доля внутренних затрат на исследования и разработки (% к ВРП) / Fig. 1. Innovative activity of the Vologda region organizations (%) and the share of internal costs for research and development (% of GRP)
Источник: составлено авторами по данным Росстата6.
Финансирование исследований и разработок, в свою очередь, также сопряжено с рядом проблем, среди которых и общее сокращение финансирования из бюджетных источников, и преобладание среди направлений финансирования прикладных исследований, имеющих практическую значимость. В структуре ассигнований на российскую науку из бюджетных источников примерно две трети (64–71 % – в зависимости от года наблюдений) приходится на финансирование именно прикладных исследований разного назначения, выполненных в интересах не только государственного, но и реального сектора (рис. 2).
2021 г. “(ЦГ^^^^^^^^^^^^^^^^Ж
2015 г. °| |l,d 4,4 k\\\\\\\\\\\\\\6.fc4\\\\\\\\\\\\\\43^6
2011 г. f 6,4 ?A\\\\\\\\\\\\\6^\\\\\\\\\\\W
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
| Прикладные - прочие области гражданского назначения ^ Прикладные - национальная экономика
2| Прикладные - образование ^ Прикладные - общегосударственные вопросы
2] Прикладные - здравоохранение й Фундаментальные исследования
Рис. 2. Структура ассигнований на гражданскую науку из средств федерального бюджета по подразделениям классификации расходов / Fig. 2. Federal budget allocations for civil science structure by expenditure classification
Источник: составлено авторами по данным, приведенным в материале Т. В. Ратай7.
Усиливают проблематику сложившиеся негативные тенденции, связанные с сокращением затрат на исследования и разработки в ВВП России в динамике (1990 г. – 2,03 %, 2019 г. – 1,51 %), с прогнозируемым снижением бюджетных расходов на гражданские исследования и разработки (с 0,45 % в 2022 г. до 0,4 % в 2024 г.). Это требует вовлечения и предпринимательского сектора, обладающего потенциалом и финансовыми ресурсами для решения проблемы сокращения затрат на исследования и разработки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение теоретических аспектов позволило выявить наличие в научной литературе разноакцентированных и даже полярных концепций в отношении развития территорий и факторов, его предопределяющих. При этом полярность концепций проявляется в двух направлениях: 1) вмешательство/ невмешательство органов власти в экономику и создание условий для стимулирования разных агентов к осуществлению экономической деятельности; 2) сближение/отсутствие сближения между регионами по показателям социально-экономического развития. Эволюция концепций сопровождалась расширением перечня факторов экономического развития и включением в него капитала знаний, параметров инновационной среды, распространения инноваций и проч.
В ходе исследования выявлено наличие в научной среде дискуссий в отношении методических подходов к оценке научно-технологического и инновационного развития территорий. Сходство их целевого назначения, а в отдельных случаях и блоков показателей, входящих в состав интегрального индикатора, в полной мере не свидетельствует об их идентичности. Различия обусловлены разными информационными источниками и применяемыми типами данных, разной степенью открытости и доступности показателей для анализа. Различия связаны и с публикацией самого рейтинга: в одних случаях итоговые значения интегрального индикатора публикуются для всех регионов, в других случаях, например в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов (Минобрнауки России), итоговые значения показателя рассчитываются для всех регионов, но публикуются для тридцати регионов, а в рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации (ИЭ РАН) представлены по первым двадцати и последним десяти позициям рейтинга.
Анализ фактологических данных в динамике и в территориальном разрезе позволил выявить группы регионов по уровню развития научнотехнологического потенциала. В работе показано, что на конец исследуемого периода (2022 год) большинство российских регионов обладали уровнем развития научно-технологического потенциала «ниже среднего». Аналогичная ситуация наблюдалась и в других временны́х точках. Так, в 2010 году доля субъектов Российской Федерации с таким уровнем научно-технологического потенциала составляла 72 %, а в 2015 году – 69 %. Подобная ситуация явилась следствием невысоких значений по четырем группам показателей (исследования и разработки; кадры; технологии; инновации), входящим в интегральный индекс.
Принимая во внимание тот факт, что положение регионов по интегральному индексу научно-технологического потенциала зависит от их положения по субиндексам, входящим в его состав, отметим, что большинство территорий по значениям субиндекса «технологии» также относилось к группе «ниже среднего» (количество субъектов в данной группе в 2010 году составляло 50, а в 2015, 2020 и 2021 годах – 53). В эту же группу входили и регионы СЗФО, в том числе Вологодская область, занимавшая в 2010 году 23-ю позицию (3,59 ед.), а в 2020-м ухудшившая свое положение, опустившись на 33-ю позицию в рейтинге регионов (3,43 ед.).
Воспроизводство научно-технологического потенциала сопряжено с его формированием и использованием. В свою очередь, формирование потенциала напрямую связано, с одной стороны, со сложившимися на уровне страны и ее регионов условиями, с другой – с тем, как формируются его отдельные компоненты. Несмотря на невысокие позиции Вологодской области как по научно-технологическому потенциалу в целом, так и по его составляющим (регион входит в группу территорий с уровнем развития потенциала «ниже среднего»), по ряду показателей, например по исследованиям и разработкам, область демонстрирует положительную динамику. Накопленный по данному направлению потенциал может быть усилен и реализован за счет финансирования не только из бюджетных, но и внебюджетных источников. Разработка инструментов, обеспечивающих решение данного вопроса, составляет одну из важнейших практикоориентированных задач.
Список литературы Рейтинг научно-технологического потенциала российских регионов
- Афанасьев А. А. Технологический суверенитет: основные направления политики по его достижению в современной России // Вопросы инновационной экономики. 2022. Т. 12, № 4. С. 2193–2212. https://doi.org/10.18334/vinec.12.4.116433. EDN: GKKYMJ.
- Баринова В. А., Земцов С. П. Рейтинги инновационного развития регионов: зачем нужна новая методика в России? // Вестник Поволожского института управления. 2016. № 6. С. 110–116. EDN: XHLITL.
- Басов С. В., Илюхина И. Б. Национальные инновационные системы: формирование концепции // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. Т. 5, № 8. С. 57–62. EDN: KAPYYB.
- Гаджиев Ю. А. Зарубежные теории регионального экономического роста и развития // Экономика региона. 2009. № 2. С. 45–62. EDN: KNVZHD.
- Гулин К. А., Мазилов Е. А., Кузьмин И. В. и др. Проблемы и направления развития научно-технологического потенциала территорий. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2017. 123 с.
- Жихарева А. К. Возможные проблемы применения региональных рейтингов // Управленческое консультирование. 2019. № 10. С. 49–60. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-10-49-60. EDN: QEUVQX.
- Жихарева А. К. Инновационные рейтинги российских регионов: методологические особенности их формирования и практика применения // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2020. № 2. С. 121–136. https://doi.org/10.24411/2073-6487-2020-10020. EDN: OJMUDH.
- Земцов С. П., Акимова В. В., Михайлов А. А. и др. Факторы регионального развития: теория, эмпирика, роль предпринимательства. М.: РАНХиГС, 2021. 59 с.
- Кузнецова О. В. Рейтинг научно-технологического развития регионов: подходы, итоги, вызовы // Проблемы прогнозирования. 2023. № 4. С. 94–103. https://doi.org/10.47711/0868-6351-199-94-103. EDN: KLRQSG.
- Лукин Е. В. Регулирование межрегиональных цепочек добавленной стоимости: проблемы анализа и моделирования // Проблемы прогнозирования. 2022. № 1. С. 19–33. https://doi.org/10.47711/0868-6351-190-19-33. EDN: NFUGCS.
- Мазилов Е. А. Тенденции научно-технологического развития Вологодской области [Электронный ресурс] // Теория и практика современной науки. 2016. № 11. С. 517–523. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-vologodskoy-oblasti?ysclid=m7xsvf3zd7895531205 (дата обращения: 06.03.2024).
- Митяков С. Н., Митякова О. И., Мурашова Н. А. Инновационное развитие регионов России: методика рейтингования // Инновации. 2017. № 9. С. 97–104. EDN: YPOWXF.
- Пахомов А. С., Лымарева О. А. Концепции регионального развития: ретроспективный анализ // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 12–2. С. 191–194. https://doi.org/10.24412/2411-0450-2021-12-2-191-194. EDN: USBJUC.
- Украинский В. Н. Современная французская пространственная экономика: теория близости и типологизация локализованных экономических систем // Пространственная экономика. 2011. № 2. С. 92–126. EDN: NXLNRH.
- Broekel T., Brenner T. Regional factors innovativeness: An empirical analysis of four German industries // The Annals of Regional Science. 2011. Vol. 47. P. 169–194. https://doi.org/10.1007/s00168-009-0364-x.
- Broekel T., Brenner T., Buerger M. An investigation of the relation between cooperation intensity the innovative success of German regions // Spatial Economic Analysis. 2015. Vol. 10, № 1, P. 52–78. https://doi.org/10.1080/17421772.2014.992359.
- Dawkins C. J. Regional development theory: Conceptual foundations, classic works, recent developments // Journal of Planning Literature. 2003. Vol. 18, № 2. P. 131–172. https://doi.org/10.1177/0885412203254706.
- Feser E. J. Old new theories of industry clusters // Clusters and regional specialisation: On geography, technology, and networks / Ed. by M. Steiner. London: Pion, 1998. P. 18–40.
- Frémont A. Regional planning in France: Theory practice // L’Espace géographique. 1993. № 1S. P. 33–46. https://doi.org/10.3406/SPGEO.1993.3187.
- Griliches Z., Lichtenberg F. Interindustry technology flows productivity growth: A reexamination // The Review of Economics and Statistics. 1984. Vol. 66, № 2. P. 324–329. https://doi.org/10.2307/1925836.
- Griliches Z., Lichtenberg F. R&D and productivity at the industry level: Is there still a relationship? // NBER Working Paper Series. 1982. Art. no. 850. 51 p. https://doi.org/10.3386/w0850.
- Hägerstrand T. Innovation diffusion as a spatial process / Translated by A. Pred. Chicago: University of Chicago Press, 1968. 334 p.
- Illeris S. An inductive theory of regional development // Papers in Regional Science. 1993. Vol. 72. P. 113–134. https://doi.org/10.1007/BF01557454.
- Lukin E., Uskova T. Development of production cooperation in Russia: Quantitative measurement // National Accounting Review. 2023. Vol. 5, № 4. P. 322–337. https://doi.org/10.3934/NAR.2023019.
- Rodríguez-Pose A., Crescenzi R. Research development, spillovers, innovation systems, the genesis of regional growth in Europe // Regional Studies. 2008. Vol. 42, № 1. P. 51–67. https://doi.org/10.1080/00343400701654186.
- Schlunze R. D. Location adjustment of Japanese management in Europe // Asian Business & Management. 2002. Vol. 1. P. 267–283. https://doi.org/10.1057/palgrave.abm.9200014.
- Voskoboynikov I. Economic growth // The contemporary Russian economy / Ed. by M. Dabrowski. Cham: Palgrave Macmillan, 2023. P. 291–312. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17382-0_15.