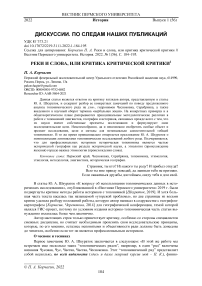Реки и слова, или критика критической критики
Автор: Корчагин П.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Дискуссии. По следам наших публикаций
Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.
Бесплатный доступ
Данная статья является ответом на критику взглядов автора, представленную в статье Ю. А. Шкураток, и содержит разбор ее конкретных замечаний по поводу предложенного анализа топонимического ряда на ухт-, гидронимов Чесноковка, Серебрянка, а также введенного в научный оборот термина «вербальная лоция». На конкретных примерах и в общетеоретическом плане раскрываются принципиальные методологические различия в работе с топонимией лингвистов, географов и историков, связанных прежде всего с тем, что их науки имеют собственные предметы исследования и формулируют свои исследовательские цели. Нецелесообразно, да и невозможно изобретать особые объект и предмет исследования, цели и методы для потенциально самостоятельной «общей топонимики». В то же время принципиально отвергается предложение Ю. А. Шкураток о монополизации лингвистами топонимических исследований любого рода. Подчеркивается, что для профессиональных историков историческая топонимика является частью исторической географии как раздела исторической науки, а этиология (происхождение явления) гораздо важнее этимологии (происхождения слова).
Пермский край, чесноковка, серебрянка, топонимика, этимология, этиология, методология, лингвистика, историческая география
Короткий адрес: https://sciup.org/147246406
IDR: 147246406 | УДК: 81’373.21 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-184-195
Текст научной статьи Реки и слова, или критика критической критики
Странник, ты кто? Из какого ты роду? И прибыл откуда? Всю ты мне правду поведай, да лживым тебя не признаю. Если окажешься дружбы достойным, сведу тебя в дом свой.
В статье Ю. А. Шкураток «К вопросу об использовании топонимических данных в исторических исследованиях», опубликованной в «Вестнике Пермского университета» 2019 г. были подвергнуты критике методы работы историков с топонимией [ Шкураток , 2019]. И хотя большая часть текста касалась так называемой «угорской проблемы», но две страницы из восьми критик уделила разбору положений работы, которую автор написал в содружестве с географом-картографом [ Корчагин , Черепанова , 2014] для географической конференции, темой которой являлся ГИС-проект, поэтому по условиям издания историко-топонимическая часть статьи вынужденно излагалась более чем лаконично.
Автор настоящих строк только приветствует критику, особенно со стороны специалистов смежных дисциплин, но считает необходимым прояснить свои исследовательские принципы, которые, по его мнению, остались непонятыми и объективности ради должны быть донесены до читателя, особенно если тот не является профессиональным историком.
О чесноке и теснинах
Первое замечание Ю. А. Шкураток заключается в следующем: «В этой же работе мы встречаем еще несколько таких “топонимических рядов”, например, в один “ряд” включены названия Чусовая, Чус, Частая, Частва, Чесноковка. Этот “топонимический ряд” представляет собой несколько, по всей видимости ( здесь и далее жирный курсив мой - П. К .), финно-
угорских и русских наименований (так и есть, в чем сомневается лингвист? – П. К.) ; в названии Чесноковка, например, легко угадывается простое русское слово “чеснок”. В “Словаре пермских фамилий” мы находим подтверждение существования в данном регионе соответствующего антропонима: “Крестьянин д. Лимеж на р. Лимеже Ивашко Федоров сын Чесноков, 1623. КЧ, 89 об.; Крестьянин Афанасьев сын Чесноков, 1647. Е, 104 [ Полякова , 2005, с. 418–419]”» [ Шкураток , 2019, с. 89].
Позволим себе не согласиться с лингвистом. Крестьянин И. Ф. Чесноков жил в д. Лимеж на р. Лимеже , ныне это р. Лычевка в Чердынском городском округе Пермского края, а соименная ему река, по утверждению Ю. А. Шкураток, появилась почему-то в 350 км к юго-востоку – в современном Шалинском городском округе Свердловской области. Имеют ли значение для предлагаемого критиком способа номинации реальные расстояния? «Семантическое пространство языка», с точки зрения историка-материалиста, в реальности не более, чем двухмерное, ибо такова мерность листа бумаги, на котором лингвисты фиксируют ход и результаты своих размышлений.
Кстати, термин «чеснок» в цитируемом замечательном словаре Е. Н. Поляковой зря отождествлен с укреплениями в виде «частокола» и «палисадника» ( точнее – палисада. – П. К. ). «Чеснок» – это не острог, а железные ежи с шипами, рассыпаемые на пути кавалерии, но на Урале чаще это второе название укреплений типа «частик» – заграждения из наклонно вкопанных заточенных кольев. Данное замечание сделано вовсе не для того, что кого-либо уязвить (тем более нам известен источник этой информации – словарь В. И. Даля), но чтобы обратить внимание на семантическую близость с этимологиями, предлагаемыми А. С. Кривощековой-Гантман, А. И. Туркиным и др.: чус - как ‘тесный, узкий’. У В. И. Даля читаем: «Частокол, палисадник; частые столбы, колья; пни, стулья под избу; сплошная забойка свай. Тын, забор чесноком. И около острогу ж, против приступных мест, рву не копано и чесноку не побито, стар. Под Исаакиевским собором чеснок , или сваи биты чесноком » [ Даль , 1909, ст. 1326].
Если лингвисту это сближение покажется невероятным, то историк продолжит, подвергнув анализу не имена рек, а поименованные реки, что называется на земле. В этом смысле весьма интересна пара сходящихся истоками рек Чесноков Алей ( не Чесночный! – П. К .) и Чесноковка в бассейне р. Алей в Новоалейском с/с Третьяковского района Алтайского края. Между их руслами в самом узком месте ныне проходит лесная дорога протяженностью около 2 км (50°51′36.1″N 82°32′23.2″E), которая явно фиксирует древний волок. И ряд таких примеров можно продолжить.
Очень характерно, что 21 река ( Чесноковка , Большая Чесноковка, Малая Чесноковка, Чеснокова , Чесноков Алей ) и 2 озера ( Чесноково , Чесноковское ) распределены по территории России вовсе не равномерно, как можно было бы ожидать. Подавляющая часть такого рода гидронимов расположена на Урале и в Сибири, а также есть одно уникальное сгущение в Среднем Поволжье (6 одноименных притоков р. Сок), т.е.: 1) в ареале распространения финнопермских и финно-волжских языков; 2) в районе поздней русской колонизации, где предлагаемая модель номинации могла действовать соответственно с XV и конца XVI вв. А вот на территории коренной России, Белоруссии и Украины подобных гидронимов почему-то нет. Не значит ли это, что на исконно русских территориях предлагаемая Ю. А. Шкураток модель словообразования не работает?
Вряд ли реки Чесноковки были названы «от растений», ведь Allium ursinum ( медвежий лук , колба́ ; заметим, что дикий чеснок не самое распространенное название) в России и на Урале чаще именуется черемшой , и гидронимы, образованные по такой модели, у нас присутствуют: Малая Черемша и Большая Черемша (56°51′12.5″N 59°37′53″E) – левые притоки р. Чусовая в Первоуральском городском округе Свердловской области; Черемшанка (57°40′31.6″N 55°57′35.7″E) – правый приток р. Бырма в Пальниковском сельском поселении – и Черемшан-ка 1-я (58°05‘14.5"N 57°35‘40"E) - левый приток р. Березовки в Лысьвенском городском округе Пермского края.
Так что с Чесноковками не все обстоит так просто, как показалось Ю. А. Шкураток, однако все вышесказанное вовсе не означает, что абсолютно все реки Чесноковки фиксируют древние переходы через водораздел, некоторые из них были просто труднопроходимыми. В конце концов, иногда сигара – это просто сигара.
Серебрянка
Наиболее Ю. А. Шкураток развернута критика нашего анализа гидронима Серебрянка . «В рамках своей гипотезы автор делает попытку этимологизировать некоторые топонимы: “Река Серебрянка (реже называемая Серебряная), по течению которой Ермак двигался на ״Та-гильский волок״, естественно, не была так названа самим атаманом, как предполагал И. Г. Георги, из-за ״серебристой прозрачности воды״, как посчитал Г. Ф. Миллер [ Матвеев , 2019, с. 246]. Вероятно, в данном случае мы имеем дело с русским переосмыслением древнего финноязычного названия, следы которого сохранились в саамском языке: “СĒББРЭ II, 1 пристать, присоединиться к кому-чему, примкнуть к кому...”. Проверим, насколько обоснована эта версия, задав несколько закономерных вопросов:
1. В каком конкретном языке возникло это название и в какое время? В работе присутствует ссылка на «Саамско-русский словарь» 1985 г. выпуска, но следов саамов в бассейне реки Чусовой не обнаружено, поэтому рассматривать современное саамское слово в качестве источника происхождения названия Серебрянка мы не можем. Если это «древнее финноязычное название» (правда, совершенно не ясно, что имеется в виду), то необходимо восстановить пра-форму соответствующего периода. К тому же, вызывает удивление, почему известному специалисту по древней финно-угорской топонимии А. К. Матвееву, много лет занимавшемуся в том числе и саамской топонимией, не пришло в голову сравнить название Серебрянка с саамским глаголом?» [ Шкураток , 2014, с. 88].
Критикуемого оправдывает только одно обстоятельство, точнее, один человек. А. К. Матвеев в 2008 г. писал: «Вполне возможно, что саами или их родичи жили и в Предура-лье, ведь похожий на саамский топонимический материал обнаруживается на Северном Урале… Если даже в Приуралье некогда обитали не саами, а какие-то родственные им финно-угры, то это не меняет сути дела» [ Матвеев , 2008, с. 61, 62]. И так думал не только он. Я. Саарикиви в 2015 г. считал, что «с точки зрения финно-угорской исторической фонологии, саамские языки довольно архаичны и во многих отношениях представляют раннюю ступень развития финноугорских языков» [ Саарикиви , 2015, с. 234]. Тот же А. К. Матвеев не считал зазорным прибегать к этимологиям из саамского языка. Таковых в его топонимическом словаре «Географические названия Урала» целых 11 (см. статьи: Вайгач, Вёлс, Вишера, Игрим, Ик, Курьи, Нары, Ревда, Щугор, Юг и Югорский Шар).
«2. При помощи каких словообразовательных средств образовано это “древнее финноязычное название”?» [ Шкураток , 2014, с. 88].
Этот вопрос со стороны Ю. А. Шкураток является изящной провокацией, на которую критикуемый позволит себе не поддаться, ибо не претендует на звание лингвиста. Его бессмысленно спрашивать и о словообразовательных средствах, и о морфемном составе гидронима, который, кстати, еще только необходимо реконструировать, если это, конечно, возможно.
«3. Какое значение это название имело? Существует ли подобная модель? В русской микротопонимии известны названия мест на берегу, лугов, деревень, образованные от народных географических терминов: исада 'часть берега реки удобная для причаливания лодок', присада 'низкий берег, образованный прибитым рекой песком, почвой' (и др. значения) [ Полякова , 2007, с. 145, 307]. Появление названия места на берегу реки со значением 'часть берега, к которой можно пристать' вполне логично, но насколько вероятно, что появится гидроним со значением 'река, к берегу которой можно пристать'?» [ Шкураток , 2014, с. 89].
Что касается значения гидронима Серебрянка , точнее, более раннего, еще не приспособленного к русскому уху названия, точная форма которого нам, увы, не известна, то Ю. А. Шку-раток напрасно ограничилась только первым, содержащимся в словарной статье, значением ‛ пристать ’. Поскольку перед нами гидроним, характеризующий реку как таковую, то в данном случае нужно рассматривать не место на берегу реки , но всю реку . Тогда искомый гидроним означал ‘ река, которая присоединяется, примыкает ’. И не загадка, к чему она примыкает, поскольку Тюменским волоком пользовались задолго до Ермака. Но вот что интересно: критик подвергла сомнению этимологию, предложенную историком П. А. Корчагиным, но почему-то безропотно согласилась с вариантом истолкования, предложенным историком Г. Ф. Миллером.
«4. Как объяснить фонетические различия между приведенным глаголом и названием реки Серебрянка?» [ Шкураток , 2014, с. 89].
Еще один провокативный вопрос. Автор статей о «вербальной лоции» не имеет специальных познаний в лингвистике и при этом обладает достаточной академической скромностью, чтобы не вторгаться в чужие сферы исследования. Но главное – в другом. Уважаемому оппоненту лишь кажется, что противная сторона практикует лингвистическую топонимику. По ведомству исторической науки родственная вспомогательная дисциплина отнюдь не случайно называется исторической топонимикой. Именно исторической, но это не значит, что историки изучают топонимию в ее становлении и развитии, вовсе нет. Они всегда исследуют исто-рию/развитие общества.
Когда историк занимается топонимикой, объектом его исследования всегда остается общество во всей полноте его существования. А предметом в нашем случае служит древняя инфраструктура, отразившаяся в сохранившихся до наших дней топонимах, гидронимах и прочих онимах: не гидронимия, но водно-транспортная сеть; не ойконимия, но система расселения. То, что для лингвиста топонимический ряд , для историка вовсе не перечень имен, но совокупность однотипных географических объектов, обладающих общим свойством, наличие которого и обусловило общность названий. Но этим традиционным термином специалисты в области исторической географии продолжают пользоваться, чтобы оставаться в общем поле понимания с географами и особенно лингвистами.
Далее Ю. А. Шкураток предлагает рассмотреть версию, представленную в словаре А. К. Матвеева.
«1. Могли ли в русском языке возникнуть названия Серебряная, Серебрянка? Да, при смене населения часто появляются новые названия для небольших рек». Конечно, если считать Серебряную просто небольшой и неважной в транзитно-транспортной сети речкой. А если она являет собой критически важную часть кросс-уральского водно-волокового пути, который русским был известен как Тюменский волок с конца XV в.? Предки современных коми пользовались им еще ранее, по крайней мере в IV–VI вв., и есть все основания полагать, что он активно использовался даже в середине II тыс. до н. э. (вспомним про так называемый Сейминско-турбинский транскультурный феномен).
«2. Могло ли название Серебряная возникнуть от имени прилагательного серебряная, а в дальнейшем превратиться в Серебрянка путем присоединения распространенного топонимического форманта -к-? Да, никаких возражений не может быть». Да никто и не возражает, в языке подобные трансформации вполне возможны, законами его развития они не запрещаются. А на местности? Но об этом чуть ниже…
«3. Образуются ли в русском языке названия рек по цвету воды? Да» [ Шкураток , 2014, с. 89]. Разве?! Неужели уважаемая оппонент всерьез думает, что в России реки назывались по цвету вод [ Суперанская , 2007, с. 120–127]? Что, в Чёрных и Белых реках вода соответственно черного и белого цвета? Стесняюсь спросить, а какого цвета тогда вода в левом притоке Катуни р. Красненькая Зеленка ? А разве серебряный это цвет? А какого цвета серебро? А Г. Ф. Миллер точно писал о серебряном цвете?
Обратимся к первоисточнику: «§ 39. Из-за этого мелководья Ермак должен был вернуться назад и искать другую речку. Ему указали на Серебрянку , получившую свое название от серебристой прозрачности ее воды» [ Миллер , 1937, с. 319]. Получается, что Федор Иванович имел в виду не серебряный цвет, а серебристый блеск… И, хотя на современных картах река иногда поименована Серебряной, но деревня на ней по-прежнему называется Серебрянка. То есть мы фиксируем процесс номинации, обратный предложенному Ю. А. Шкураток в п. 2, и серебристая Серебрянка стала серебряной весьма поздно.
Вообще, в российских условиях речная вода реально имеет всего два цвета, точнее, даже один, поскольку в межень вода прозрачна/бесцветна, в половодье же – серовато-коричневых оттенков, в зависимости от размываемых береговых пород. А наличие в топонимическом словаре «цветных» гидронимов не означает автоматически, что их дифференциация именно цветовая.
«4. Есть ли необъясненные фонетические противоречия? Нет» [Шкураток, 2014, с. 89]. Фонетических противоречий нет, но историк специализируется на раскрытии иных противоречий – смысловых и логических. В Чердынском городском округе Пермского края протекают четыре (!) рядом расположенные реки Серебрянки – все они притоки р. Лопья левого притока р. Южной Кельтмы. Перечислим их, двигаясь вверх по течению: р. Серебрянка 1-я - левый приток р. Лопья (устье 60.876797, 55.593384); р. Серебрянка 2-я - левый приток р. Лопья (устье 60.898762, 55.593868); р. Серебрянка - правый приток р. Лопья (устье 60.927341, 55.598716); р. Серебрянка - левый приток р. Лопья (устье 60.975011, 55.756292). Для сведения: между устьями Серебрянки 1-й и Серебрянки, левым притоком Лопьи, напрямую 14 км, а по течению реки немногим больше. Местность, в которой расположены перечисленные реки, представляет собой низкий, местами заболоченный водораздел, где вообще-то трудно предполагать «серебристую прозрачность воды». Еще труднее поверить в отсутствие у наших предков фантазии и стремления к разнообразию. Остается предположить наличие у них каких-то весьма жестких принципов номинации однородных водных объектов, заставлявших смиряться с множественностью одинаковых гидронимов.
Показателен пример с р. Серебрянкой левого притока р. Сак-Элга левого притока р. Миас в Карабашском городском округе Челябинской области. Эта отнюдь не горная река протяженностью всего 8 км протекает через г. Карабаш вдоль ул. Серебрянской. Широко известно расположенное рядом Карабашское месторождение медных руд, ранее в этих местах функционировали Соймоновские золотые прииски, но серебряных рудников не бывало никогда, поэтому следует такую возможную причину номинации категорически отвергнуть. Так вот, эта река вытекает из оз. Серебры (55°30'58"N 60°11'39"E), которое точно не названо в честь серебряного цвета или серебристого блеска, ибо в русском языке не существует такого специфической формы слова серебряный .
Коротенькая (6,5 км) р. Сабровка в Осташковском городском округе Тверской области связывает оз. Сабро (57°9'23"N 32°51'57"E) с оз. Селигер. Точно так же оз. Себренга в Тотем-ском районе Вологодской области (60°13‘43"N 42°19‘48"E) соединяется с р. Кулой двухкилометровой протокой. Памятуя о совете Ю. А. Шкураток, что «в области топонимии Прикамья нельзя, например, игнорировать работы А. К. Матвеева», обратимся к ним: « Себреньга (Сев-реньга) > Кулой > Вага (Влг, Тот). - фин. seura «общество», ижор. sebra «друг», карел, sepra , seura «общество», люд. siebr(e) «общество, товарищество», вепс, sebr «рабочее общество; общая работа», вод. sebra «друг», эст. sober (род. sobrd) «друг» [SSA 3: 172] ~ прасаам. *sepre, саам. сев. .vzer've, Инари servi, Колтта searvv, Кильдин siebr «(промысловое) общество» [YS: 122– 123]» [ Матвеев , 1969, с. 53].
Фонетических противоречий здесь, конечно, нет. А логические? Что должно означать Себрен[ь]га в переводе на русский язык? Казалось бы, общее озеро , общественное озеро , вряд ли дружеское или товарищеское . Но был ли смысл так называть озеро в первобытную эпоху, когда частной собственности не существовало и в общественной собственности находились абсолютно все промысловые угодья? Очевидно, стоит предполагать какую-то иную причину. Сохраняя всегдашнее уважение к авторитету А. К. Матвеева, замечу, что семантика объедине-ния/присоединения читается и у него.
О словах и волоках
Ю. А. Шкураток продолжает: «Отметим также, что оперировать понятием “топонимический ряд”, в который входят произвольно собранные топонимы, содержащие хотя бы одну общую букву (а иногда и ни одной) , недопустимо… Приведем из рассматриваемой статьи пример такого “топонимического ряда”: “Поэтому нами картографируется весь топонимический ряд: Ухта, Ухтым, Ухтома, Ухтомка, Ухтомица, Охта, Охтома, Охтомица, Великая Охта (Во-хта), Малая Вохта, Вохма, Вохтома, Вохтомица, Уква, Вуква, Укта, Уктым (Угдым), Окта, Ок-тым, Октом, Вуктым, Вуктыл, Ыктыл (Иктыль), Вонтым (из Воктым), озера Оквад, Воквад, Аквад”» [ Шкураток , 2014, с. 89].
Критикуемый вынужден заметить, что не он является автором этого ряда, он позаимствовал его у А. П. Афанасьева, который в 1970-е гг. писал об исторических, географических и топонимических аспектах изучения древних водно-волоковых путей: «До начала русского этапа освоения Европейского Севера и лесных районом Поволжья в значении “волок” широко был распространен финно-угорский термин, который сохранился ныне в гидронимах в форме - ах ( т )-, ак -, - ох ( т )-, - ок ( т )-, - ух ( т )-, - ук ( т )-. Данная гипотеза выдвинута на основе массового совпадения гидронимов указанного типа с историческими волоками» [ Афанасьев , 1979, с. 57]. С А. П. Афанасьевым солидаризировался А. Л. Шилов [ Шилов , 1999].
Отправляя читателя за подробностями к работам А. П. Афанасьева, не могу не процитировать его провидческих слов полувековой давности: «Лингвисты никогда бы не позволили допустить родство таких названий, как Уктыл (Иктыль), Хутынья и Кутим, но география доказывает, что это вполне возможно» [ Афанасьев , 1976, с. 25]. Добавлю от себя, не только география.
Насколько известно автору, из всего этого ряда лингвисты определенно обсуждают только гидронимы на ухт - [ Муллонен , 2002, с. 70-71]. По мнению А. К. Матвеева: «Вся эта неясная картина наводит на мысль, что гидронимы на - Vxma могут быть субсубстратными ... <...> Основы Ухт -, Охт - в некоторых случаях могут быть связаны с финно-угорскими словами, имеющими значение ‘волок’, ‘медведь’, ‘один’. Это пока дискуссионный вопрос, и здесь мы его касаться не будем » [ Матвеев , 2015, с. 105, 107].
Правильно ли понял критикуемый, что лингвисты практически отказались решать проблему, поставленную в работах А. П. Афанасьева и А. Л. Шилова?2. Возможно, эта проблема в рамках исключительно наук о языке вообще не может быть решена? А вот историки и географы необходимые для этого методы и инструменты имеют, причем их задача с развитием ГИС-технологий заметно упрощается. Достаточно было выделить на карте реки, заведомо включенные в состав древних водно-волоковых путей (исторических источников для этого достаточно), картографировать топонимы и гидронимы, фиксировавшие непосредственно места волоков ( Воло-чаевка и проч. ), а затем внимательно изучить реки, подходящие к ним из соседних бассейнов.
В ходе анализа выяснилось, что все гидронимы из предложенного Афанасьевым ряда принадлежат рекам, ведущим к волокам. Более того, его необходимо расширить: например, Актай (в черте г. Верхотурья), на картах С. У. Ремезова отмеченный как Охтай . Но к волокам подходят не только реки с названиями из ряда Афанасьева/Шилова, но и с названиями, которые на первый взгляд не свидетельствуют однозначно об их известных нам судоходных характеристиках или об их месте в инфраструктуре. Но, если разбираться внимательно, то окажется, что вряд ли стоит производить гидроним Луза от саамского лусс (лосось) [ Туркин , 1986, с. 64], поскольку ни в Лузу бассейна Печоры, ни в Лузу бассейна Юга лосось на нерест не поднимается. Видимо, стоит присмотреться к коми « ЛЮЗЫЫНЫ неперех. 1) течь струёй, струиться.» [ Безносикова , Айбабина , Коснырева , 2000, с. 373], к мансийскому лусс (озерко среди болота) [ Матвеев , 2008, с. 158] и другим подобным.
Именно таким образом были выделены критикуемые Ю. А. Шкураток специальные топонимические ряды, обнародованные и объясненные в наших с А. С. Лобаной и Е. С. Черепановой статьях: «Гидронимы, маркирующие участки водно-волоковых путей, имеют весьма характерную семантику. Это или очень древние понятия, означающие просто реку, поток, русло, ложбину , или свойства стесненности , узости , иллюстрирующие условия навигации либо прямо указывающие на примыкание к ним» [ Корчагин , Черепанова , 2016, с. 310].
Результатом предпринятого историко-топонимического исследования стала карта древних водно-волоковых путей территории Пермского края , которая показывает только часть реконструируемой древней инфраструктуры Русского Севера, Верхнего и Среднего Поволжья, Урала и Западной Сибири. Сохраняя твердую веру в гносеологический потенциал лингвистики, историки и географы приглашают коллег все-таки присоединиться к решению вопроса, который пока, очевидно, остается дискуссионным.
Лоция
«Историки, как правило, прибегают к лингвистическим сведениям , например, в работах П. А. Корчагина топонимические и антропонимические свидетельства используются в ходе размышлений , например, о названиях рек как о своеобразных “вербальных лоциях”», -почему-то во множественном числе пишет Ю. А. Шкураток, хотя критикуемый писал только о единственной «вербальной лоции» как отражении в топонимии реальной древней речной инфраструктуры. Очевидно, ее эта гипотеза и не очень интересовала, по крайней мере, далее в статье термин «лоция» встречается единожды в цитате в связи с этимологизацией гидронима Серебрянка , но обо всем по порядку.
Заметим, лоция - это не гидроним, не специфический словарь и даже не особый топонимический ряд, а «раздел судовождения, где изучаются навигационные опасности, средства навигационного оборудования водного пути... Лоцией также называют книгу, где дается описание моря, озера или реки с целью охарактеризовать условия плавания в пределах рас- сматриваемого района с учетом особенностей берегов и дна водоема, метеорологических и гидрологических условий, определяющих безопасность и удобства плавания» [Земляновский, 1988, с. 10-11].
Предложенный автором настоящей статьи термин «вербальная лоция» подразумевает значимую часть общественного сознания древнего населения, связанную с организацией судоходства и вообще ориентацией на местности, а вербальная она только потому, что существовала изустно, не записанная в силу отсутствия самой письменности.
Сразу же во втором абзаце автор критической статьи наглядно демонстрирует глубину личного понимания специфики научного труда критикуемых специалистов. Дело в том, что историки для доказательства собственных гипотез никогда не «прибегают к лингвистическим сведениям», хотя бы потому, что в их профессиональном языке такого термина/понятия не существует. Нам кажется, что и лингвисты его не используют, по крайней мере, в качестве научного. Собственно говоря, и громоздкий термин «топонимические свидетельства» означает не что иное, как просто топонимы, так или иначе отражающие предмет конкретного научного интереса исследователя (протоисторический ландшафт [ Гордиенко , 1997], формирование населения [ Муллонен , 2003], характер его мировоззрения [ Шилов , 2006], динамика изменений природно-географических условий [ Жекулин, 1967; Любимова , Мурзаев , 1964]). «Топонимические свидетельства» - это не строгий научный термин, а всего лишь синоним для того, чтобы хоть как-то разнообразить сухой стиль академических текстов. На наш взгляд, подобное приписывание оппоненту несвойственных ему методов сродни изготовлению его картонной и легко побеждаемой фигуры.
О топонимике как науке
После разбора разногласий с критиком по конкретным случаям применения топонимического анализа есть смысл провести анализ общих утверждений, которые, казалось бы, давно уже устоялись и до сих пор считаются общепризнанными: «Топонимика - пограничная научная дисциплина , развивающаяся на стыке трех наук: языкознания, истории и географии – и комплексно пользующаяся их методами , преследует одну цель - всестороннее, суммарное изучение географических названий» [ Мурзаев , 1974]. Стоит отметить, что Э. М. Мурзаев, постулируя комплексную междисциплинарную сущность топонимики, сформулировал цель исключительно географического исследования, которая лингвистами и историками не может быть принята безоговорочно.
Еще один топонимист-географ С. Н. Басик сформулировал одно из самых характерных определений интересующей нас дисциплины: «Топонимика - это научная дисциплина, которая изучает географические названия , их происхождение, развитие, современное состояние, смысловое значение, написание и произношение… Понятия географическая номенклатура (от латинского nomenklatura – «список имен»), топоникон (топонимикон) являются аналогом термина топонимия » [ Басик , 2006, с. 6]. Как видим, ключевым понятием здесь является географическая номенклатура , откуда следует и практическая применимость именно в географических топонимических исследованиях.
При всем том С. Н. Басик постарался избежать известной узости географического подхода: « Ни одна из наук не должна обладать “монополией” на топонимику . Опыт показал, что плодотворные топонимические исследования могут развиваться при использовании методов и достижений всех трех наук. Топонимист (ученый, занимающийся топонимикой) не должен быть только лингвистом, или географом, или историком – он должен быть топоними-стом. Это положение, сформулированное еще в 60-е годы прошлого столетия, является определяющим в современных подходах к топонимике как науке. Таким образом, топонимика - это самостоятельная “пограничная” наука , развивающаяся на стыке трех дисциплин (лингвистики, истории и географии)» [Басик, 2006, 8].
В отличие от географов, лингвисты настроены более чем сепаратно. А. К. Матвеев в преамбуле к монографии «Субстратная топонимия Русского Севера» писал: «Поскольку при исследовании топонимии, восходящей к вымершим языкам, в первую очередь нужно исходить не из общих (нелингвистических) соображений, а из самого топонимического материала, эта работа – чисто лингвистическое исследование, основанное на постулате, что изучение субстратной топонимии есть только специфическая область этимологии, а учет исторических данных и географических сведений – обычный прием лингвистической практики, отнюдь не предполагающей выделения топономастики из лингвистики в особую область гуманитарных наук» [Матвеев, 2001, с. 9]. Несколько настораживает, что исторические или географические исследования, так или иначе затрагивающие топонимию, предлагается лишь «учитывать» и считать «обычным приемом лингвистической (sic! – П. К.) практики». Воистину: «Брат сказал брату: то мое, а это мое же!».
Правда, в следующем абзаце А. К. Матвеев пишет уже несколько иное: «Ориентируясь на данные языка, автор не стремился к обобщениям этногенетического характера . Однако этимологическое изучение значительного числа субстратных топонимов… позволило выяснить некоторые особенности их семантики, представляющие интерес не только с лингвистической, но и с историко-этнографической стороны . Еще показательнее в этом плане были результаты картографирования формантов и основ. Разумеется, рискованно только по топонимическим данным восстанавливать историческое прошлое, поскольку исследование, имеющее такую целеустановку, должно учитывать как лингвистические, так и археологические, антропологические, этнографические и т. п. сведения . Однако некоторые обобщения этой работы выходят за рамки лингвистики, хотя основываются исключительно на топонимических фактах , что следует рассматривать, конечно, только как попытку интерпретации одного вида источников» [Там же, с. 9–10]. Только автору настоящей статьи кажется, что сказанное дезавуирует или, по крайней мере, ставит под серьезное сомнение первоначальное заявление о самодостаточности топономастики.
Ю. А. Шкураток абсолютно разделяет мнение А. К. Матвеева о полной автономии лингвистической топонимики. Она даже пошла дальше, и не имеющих филологического образования коллег, грешащих топонимикой, приравняла к лжеученым и эстрадным юмористам, иначе зачем настоятельно советовать «грешникам» изучать книгу А. А. Зализняка «Из заметок о любительской лингвистике»? [ Зализняк , 2010]. Хотя критик могла бы отнестись к ним с большим уважением, как сделал тот же А. К. Матвеев в статье «Субъективные факторы и лженаука в топонимических исследованиях» [ Матвеев , 2010]. Но она, не вникая в разницу научных подходов, сразу же указала историкам и географам на их место. Таких, как они, лингвистов-любителей, можно использовать в лучшем случае на подхвате, их задача обеспечить настоящих профессионалов «историческими данными» и «географическими сведениями»: «Всем остальным остается только полагаться на то, что работа по установлению происхождения слова этимологом выполнена добросовестно и этим результатам стоит доверять» [ Шкураток , 2019, с. 87–88]. Жаль, что критик не сформулировала четкого критерия объективности выводов лингвистов, поскольку добросовестность – это, увы, больше характеристика автора, нежели исследования, а категория веры (даже в форме доверия) вообще не научна.
Ю. А. Шкураток почему-то посчитала, что пермские историки проявляют « активный интерес … к одному из разделов лингвистики – ономастике – и к ее подразделу – топонимике». А это вовсе не так… Не то чтобы топонимика не интересует их вовсе, но числят они ее отнюдь не по разряду лингвистики. Еще С. Б. Веселовский в статье 1945 г., лишь приоткрывая возможности исторического анализа топонимии, все же вполне определенно сформулировал главную мысль: « Топонимика в историческом разрезе изучает происхождение географических терминов, выясняет местонахождение несуществующих селений, изменения и смену одних терминов другими. Таким образом, историческая топонимика является по существу очень важной частью исторической географии » [ Веселовский , 1945, с. 24]. А, значит, и методы исследования должны применяться исторические, а не лингвистические.
Историки всегда сознательно воздерживались от анализа лингвистических проблем, подчеркивая особую природу своего интереса к топонимике (в рамках истории общества, но не истории языка). Еще в начале XX в. Д. Н. Егоров весьма ясно определил исследовательскую позицию: «Настоящая работа принципиально воздерживается от каких бы то ни было филологических проблем, но длительная полоса чисто филологической разработки топографической номенклатуры не может быть обойдена, так как она подготовила почву для исторической трактовки вопроса» [Егоров, 1915, c. 447]. И главное: «Можно ли для целей исторических ограничиться исключительно лингвистическими наведениями, не приведенными в связь с тогдашней действительностью? Иными словами, можно ли, исходя из названий, делать за- ключения о людях, давших эти названия, не имея о них достаточных сведений, не зная прежде всего тех условий, в силу которых они остановили свой выбор именно на определенных названиях? Для историка этиология названия имеет гораздо большее значение, нежели его этимология (sic! – П. К.), но этиология не гадательная, а фактическая, доступная проверке» [Там же, c. 453]. Историков интересует не «историческое словобразование», а «образование» (возникновение и функционирование) исторических явлений, которые в языке отражаются, но отнюдь не содержатся.
Историки всегда опираются в своих исследованиях (а вовсе не в «размышлениях») не на «свидетельства», а на исторические источники . Стоит развести понятия: топоним для лингвиста – слово, имя собственное, для географа – единица географической номенклатуры, а для историка – особая форма исторического источника, в котором запечатлелись древние реалии. Топонимический источник – это не только собственно слово: топоним, гидроним и проч.; он теснейшим образом связан с называемым объектом: городом, урочищем, рекой, озером, – на улицах, полях, волнах и берегах которого разворачивались исторические события.
Академик М. Н. Тихомиров в классификации исторических источников не выделял топонимические из лингвистических: « Из источников лингвистических на первом месте стоит географическая номенклатура , сохраняющая воспоминания о прошлом… Лингвистика является наукой с очень точными выводами и требует глубоких знаний. Поэтому следует заранее предостеречь от доморощенной исторической лингвистики . В XVIII в. многие названия пытались объяснить по чисто анекдотическому способу…» [ Тихомиров , 1962, с. 9]. Как видим, о недопустимости любительских этимологий историки предупреждены уже давно.
По определению С. И. Коткова, лингвистический источник в лингвистике «представляет собой единицу непосредственного (инструментально-физического) или опосредованного (графического) запечатления языка или его элементов, объем и содержание которой определяется, с одной стороны, возможностями и потребностями общения, с другой – строем запечатленного» [ Котков , 1980, с. 10–11]. Таким образом, у лингвистов и историков отличаются не только подходы к источникам, они не только практикуют разные методы исследования, но и избирают принципиально различные предметы исследования. К сожалению, и в лингвистике, и в исторической науке теория и методика топонимического источниковедения разработаны еще недостаточно, но уже сейчас ясно, что здесь специалисты разных областей существуют в параллельных вселенных, вкладывая в одни и те же научные термины весьма отличный смысл.
Именно поэтому не стоит считать топонимику общей для всех, пускай и вспомогательной, научной дисциплиной. Очень хотелось бы разделять оптимизм С. Н. Басика, но автор настоящих строк сомневается не столько в возможности пусть даже самых талантливых людей совмещать равно глубокое понимание закономерностей развития и виртуозное владение методологией трех весьма разных наук, сколько в целесообразности выделения особой дисциплины. Хотя топонимия – это поле пересечения научных интересов историков, географов и лингвистов, но лингвистика, география и история имеют собственные предметы исследования и формулируют свои исследовательские цели. Нецелесообразно, да и невозможно изобретать какие-то особые объект и предмет исследования, цели и методы для потенциально самостоятельной общей топонимики . Что, понятно, вовсе не исключает возможности сотрудничества в интересах всех наук. Но для этого стоит научиться понимать свойственный коллегам modus operandi , особенно его отличия от собственного. Поэтому не устарели слова немодного ныне классика: «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться».
Список литературы Реки и слова, или критика критической критики
- Афанасьев А.П. "Волоковая" лексика на водных путях Поволжья и Европейского Севера // Топонимика и историческая география. М., 1976. С. 21-26.
- Афанасьев А.П. Исторические, географические и топонимические аспекты изучения древних водно-волоковых путей // Вопросы географии. Топонимика на службе географии. М., 1979. С. 56-63.
- Басик С.Н. Общая топонимика: учеб. пособие. Мн.: Изд-во БГУ, 2006. 200 с.
- Безносикова Л.М., Айбабина Е.А., Коснырева Р.И. Коми-русский словарь (Коми-роч кывчукӧр). Сыктывкар, 2000. 811 с.
- Веселовский С.Б. Топонимика на службе истории // Исторические записки. М., 1945. Вып. 17. С. 24-52.