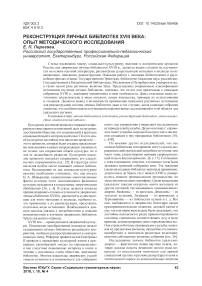Реконструкция личных библиотек XVIII века: опыт методического исследования
Бесплатный доступ
Статья посвящена такому социально-культурному явлению в историческом прошлом России, как дворянские личные библиотеки XVIII в., делается анализ степени их изученности на основе научной литературы, рассмотрены существующие методики и подходы по их выявлению, описанию, реконструкции. Показана работа с личными библиотеками в крупнейших фондах страны: Государственном Эрмитаже, библиотеке Академии наук, российских Государственной и Национальной библиотеках, Московском и Петербургском университетах, а также целом ряде регионов, включая Урал. Представлены современные классификации источников изучения личных библиотек, показано, что не все они применимы к книжным собраниям XVIII в., имеющим ограничения и свои особенности. Даны отдельные виды источников: владельческие и иные каталоги, описи имущества, примеры их использования и создания. Делается вывод о возможности применения комплекса различных источников для реконструкции состава личных библиотек даже в тех случаях, когда книжные собрания утрачены, что особенно важно в отношении перспективных исследований в этой области для уральского региона.
Личная библиотека, источники, реконструкция библиотек, опись имущества, владельческий каталог
Короткий адрес: https://sciup.org/147231629
IDR: 147231629 | УДК: 002.2 | DOI: 10.14529/ssh180406
Текст научной статьи Реконструкция личных библиотек XVIII века: опыт методического исследования
Культурное достояние прошлого отражает непрерывную связь времен и поколений, всех культурных достижений общества, его сохраненный в арсенале социальной памяти исторический опыт. По сути своей культурное достояние или наследие прошлого — это те ценности, которые были созданы предыдущими поколениями и имеют непреходящую значимость не только для сохранения общей культуры, но и для ее дальнейшего развития. Культурное наследие прошлого подлежит сохранению, его следует изучать и приумножать [см.: 25]. В структуре этого наследия особое место занимают личные библиотеки. Рассматривая их как социально-культурное явление необходимо учитывать, что, как писала Н. А. Шавыркина, «накопленные многочисленные факты истории этого многовекового феномена культуры нуждаются в осмыслении, теоретическом обобщении» [36, с. 4]. В статье делается попытка проанализировать степень изученности дворянских личных библиотек XVIII в., рассмотреть существующие для этого методики и подходы, особенно те, что применимы к их реконструкции, представить отдельные виды источников. Необходимость данного анализа связана с потребностями и новыми возможностями в изучении дворянских библиотек Урала указанного периода.
XVIII век — время расцвета дворянской культуры. Петровские преобразования положили начало складыванию личных библиотек российского дворянства, особенно распространившихся в екатерининскую эпоху. Реформы правительства Екатерины II привели к оживлению культурной жизни в провинции, своеобразной «моде» на «просвещение» и как следствие повышению интереса к книге и чтению у различных слоев общества, заведению библиотек. Многие владельцы дворянских усадеб «имели склонность и возможности для собирания книг», как справедливо утверждают исследователи истории русской усадьбы. Далее они пишут: «проводя в своих усадьбах нередко большую часть жизни, они создавали в них прекрасные библиотеки» [10, с. 658].
По мнению других исследователей, «не все личные библиотеки того времени могут служить выражением действительной потребности чтения: они часто лишь удовлетворяли веяниям скоропроходящей моды и вкусам времени». [6, с. 17]. Соглашаясь с этим в принципе, отметим, что именно тогда была заложена традиция собирания книг. Эта традиция (мода) на создание библиотек затронула провинцию, дошла она и до Урала, где с начала XVIII в. развернулось мощное промышленное производство, но здесь она имела свою специфику. Среди владельцев уральских заводов оказалось много выходцев из других сословий, так называемых «новоявленных» дворян: Яковлевы — из крестьян, Демидовы — из тульских кузнецов, Лазаревы — из армянских, а Турчаниновы — из тобольских купцов и т. д. Все они, выбившиеся в дворянство благодаря своим предпринимательским талантам, деловой хватке и уму, так или иначе вынуждены были доказывать, что достойны находиться в рядах привилегированного сословия, стремились соответствовать духу и моде времени, демонстрировать свою «просвещенность». Они строили богатые призаводские усадьбы, наполняя их предметами роскоши, наподобие столичных, приобретали и пополняли различные коллекции, включая собственные книжные собрания [см.: 26].
Исследование личных библиотек уральских дворян — фактически новая научная задача, которая должна помочь решению целого ряда вопросов: от воссоздания типичного для данной социальной группы и региона репертуара чтения и читательского спроса до дополнительных штрихов к портретам самих владельцев, прежде всего уральских промышленников [см.: 24].
Изучение личных библиотек России началось еще в XIX в. с трудов Г. Н. Геннади, И. В. Аничкова, М. Я. Параделова и др. Только в известной работе У. Г. Иваска «Частные библиотеки в Росси» 1911—1912 гг. даны сведения более чем о тысячи библиотеках, включая дворянские. Но все эти работы носили не обобщающий, а «статистически-антикварный характер» [10, с. 660], к тому же они не затрагивали уральский регион. В советское время интерес к теме вернулся в 1970-е — 1980-е гг., когда началось изучение личных библиотек в составе государственных книгохранилищ, проводились книговедческие конференции, выходили концептуальные статьи (А. С. Мыльникова, И. Ф. Мартынова и др.) и монографии (С. П. Луппова, П. И. Хотеева, О. Е. Глаголевой и др.). В последующие десятилетия изучению личных библиотек уделялось все больше внимания, расширялись их география, источни-ковая база, уточнялась терминология, появлялись диссертационные исследования (Н. А Бессоновой, Е. Б. Виноградовой, О. В. Захаровой, С. И. Лякишевой, Н. А. Шавыркиной). Подробно историография темы представлена в коллективной монографии по истории русской усадьбы 2001 г. [10, с. 659—660], а также в «материалах к указателю» О. Н. Ильиной «Изучение личных библиотек в России», вышедшая в 2008 г. [11].
За последние полвека опубликовано много работ по итогам книговедческих (археографических) обследований целых регионов, прежде всего, старых русских провинций: Костромской, Вологодской, Тверской, Самарской и Симбирской [5; 7; 19], в результате которых было выявлено немало материалов по истории личных библиотек, прежде всего дворянских. Эффективными оказались поиски сведений по истории русской книжности (документов, редких изданий и рукописей, отдельных экземпляров и остатков частных книжных собраний), проводившиеся в местных государственных архивах, музеях и библиотеках, они наглядно, на конкретных примерах доказали, как писал один из вдохновителей и зачинателей этих «археографических» обследований И. Ф. Мартынов, «перспективность книговедческого метода для реконструкции духовного мира провинциальных администраторов, мыслителей и поэтов преддекабристской поры» [19, с. 120] и, добавим, шире — провинциального дворянства в целом. Позднее подобная работа была проведена и на Урале, когда после обследования двенадцати книгохранилищ четырех уральских городов было опубликовано описание свыше шести тысяч экземпляров книжных памятников, выявлены имена сотен книговладельцев [27]. О целесообразности выявления и реконструкции личных библиотек чаще говорилось в связи с тем, что на их основе создавались фонды крупнейших библиотек страны, где они «рассеялись и таятся в недрах книгохранилищ» [37, с. 5]. В постсоветское время причины интереса к изучению личных библиотек, входящих в состав фондов государственных книгохранилищ, специалисты связывают уже с «общими тенденциями, характерными для развития отечественного гумани- тарного знания», имея в виду «обращение к общечеловеческим ценностям и осмысление созидательной роли личности в истории культуры, попытки найти объяснение современных реалий в историческом прошлом» [14, с. 9]. Очевидно, такая позиция еще долго будет актуальна, поскольку государственные книжные фонды (включая музейные и архивные) хранят много не выявленных и неизученных в силу этого личных библиотек, поэтому необходимо использовать описанные в литературе накопленный опыт и методики исследования общих фондов.
Давно изучается состав книгохранилищ Библиотеки Академии наук, Государственного Эрмитажа, Московского университета, которые еще в XVIII в. были пополнены фондами личных библиотек (в результате покупок, конфискаций, даров), но ни в одной из них при этом не сохранились в своем первоначальном виде. Большой массив книг поступил в эти, как и многие другие государственные книгохранилища, включая провинциальные (областные, районные), после национализации 1920-х гг., что также приводило к полному растворению книжных собраний частных лиц в общих фондах. В результате проведенной работы с фондами в отделе редких книг МГУ было выявлено 43 личные библиотеки [37, с. 5], в Исторической библиотеке (ГПИБ) — около 40 (в это число входят и «общественные собрания») [1, с. 9]. В Библиотеке Академии наук только за первую половину XVIII в. выявлено 25 частных книжных собраний [15, с. 81]. Не случайно именно в БАН была разработана и успешно осуществлялась поэтапно «конкретная программа выявления частных собраний» в составе библиотечного фонда [о программе см.: 2, с. 91—93]. Изучение фондов научной библиотеки Петербургского университета позволило выявить «прежде рассеянную в фондах» большую часть библиотеки чиновника и библиофила XVIII в. П. Ф. Жукова, оказавшейся «одной из немногих дошедших до наших дней» [21, с. 188]. Некоторые современные исследователи начинают даже считать «наиболее эффективным» функционирование «частных книжных коллекций» именно как структурных составляющих общественных библиотек [16, с. 82], но, заметим, эта «эффективность» вызвана скорее конкретными, трагическими по сути, историческими реалиями. Описанные методики визуального обследования современных библиотечных (и иных книгосодержащих) фондов связаны, прежде всего, с поиском и изучением старых инвентарных книг, библиотечных описей [15, с. 84], каталогов, фронтальным просмотром фондов [2, с. 91; 28], выявлением книжных знаков [22, с. 51—52], владельческих переплетов [33, с. 178], книжных закладок и других вложений, использованием наклеенных на книгах старых библиотечных номеров и тиснений на корешках, владельческих записей [9, с. 19; 37]. Наконец, директор ГПИБ М. Д. Афанасьев, специалист по книжным памятникам, предложил ввести «библиотечную генеалогию», как новую вспомогательную дисциплину. «Решению проблем единой методологии и методики исследований истории отдельных книжных собраний, — пишет он, — может содействовать использование языка и методики генеалогических исследований». Генеалогический подход «позволит установить взаимосвязи библиотек в формировании фондов, уточнить роль тех или иных собраний в создании новых и реорганизации старых библиотек» [1, с. 10]. О новой вспомогательной дисциплине говорит и К. Г. Боленко, предлагая назвать ее «история библиотек» [4, с. 89]. Осталось добавить, что с целью выявления частных книжных собраний уже проведены обследования фондов областных библиотек: Тульской [8], Ярославской [20] и др., из уральских — Свердловской и Челябинской [34], эта работа должна быть продолжена.
Не простым вопросом в истории личных библиотек является вопрос об источниковедческой базе их изучения. Трудность заключается в том, что, по справедливому утверждению научных сотрудников Российской национальной библиотеки, «какие-либо специальные источники, позволяющие комплексно получать фактическую, библиографическую и полнотекстовую информацию о личных библиотеках, в настоящее время в России отсутствуют» [14, с. 10]. Тем важнее представленные ими источники, где могут вестись поиски этих материалов, распределенные авторами «для удобства рассмотрения», по их выражению, в несколько групп: фактографической информации (любые сведения о владельце и самой библиотеке), источники графической и полнотекстовой информации (индивидуальные переплеты, книжные знаки, дарственные и владельческие надписи, маргиналии) и библиографической информации [14, с. 11 и далее]. Позднее эта тема развита и подробно рассмотрена в обзоре одного из авторов, О. Н. Ильиной. Свою задачу она сформулировала прямо: «помочь исследователям, в первую очередь начинающим, опираясь на представленную в обзоре информацию, самостоятельно определить круг необходимых источников и литературы для проведения того или иного исследования» [13, с. 9]. Действительно, ее статья содержит много полезных сведений, которые важно знать всем, кто занимается темами, связанными с изучением личных библиотек России. Особенно это касается таких ограниченных в доступе для всех, профессионально не связанных с их созданием, источников, как обобщающие электронные ресурсы, базы данных, электронные каталоги, сайты библиотек и музеев, справочники и путеводители по ним, архивные каталоги и описи личных фондов [13, с. 16—19, 31]. К сожалению, в основном эти сведения относятся к более позднему хронологическому периоду в истории личных библиотек, а именно XIX — началу XX в. Наибольший интерес для изучения книжных собраний XVIII в. представляет группа специальных источников в предложенной О. Н. Ильиной классификации, где кроме самих книг с владельческими особенностями, воспоминаний о библиотеке и ее владельце, изобразительных материалов и предметов интерьера названы каталоги, а также условно отнесенные к ним описи, описания, реестры, инвентари, списки личной библиотеки в различные периоды ее существования [13, с. 11—12]. Соглашаясь с возможностью такого условного объединения сходных по сути (всегда это некий перечень книг), но часто различных на практике определений, выделим из этого ряда два, на наш взгляд, важнейших: каталоги и описи. Но и здесь отметим, что книговеды и библиографы часто объединяют оба термина, понимая под ними целенаправленное составление списка книг (обычно по инициативе владельца), фиксирующего состав конкретной библиотеки. Этому способствует и то, что в дореволюционной практике каталоги часто назывались описями, мы же под последними будем подразумевать только те, что находились в составе общих имущественных описей (о них ниже). Опыт многих исследователей личных библиотек интересующего нас периода показывает, что оба источника довольно редки для XVIII в., тем важнее обозначить их примеры.
Так, имела каталог богатейшая библиотека графа Д. П. Бутурлина, о которой еще в середине XIX в. с восхищением писал Г. Н. Геннади, он был напечатан в 1794 г. в Петербурге самим владельцем [31, с. 35]. Сохранился рукописный каталог (в виде тетради) французских книг из библиотеки основателя Оста-фьевской усадьбы князя А. И. Вяземского, относящийся к 1780 г., он не был опубликован и содержит лишь шестую часть библиотеки [32, с. 279—282]. В 1796 г. был составлен каталог «родовой усадебной библиотеки» Вологодской губ. деда известного русского поэта К. Н. Батюшкова (включал 92 печатные и рукописные книги) [6, с. 18]. «Роспись российским, французским… книгам» своей библиотеки вел небогатый тульский дворянин, в прошлом чиновник одного из департаментов Сената, А. А. Авдеев [8, с. 178]. Рядовая библиотека (ее исследователь М. А. Любавин отмечает, что она не выделялась по составу или количеству книг) рыльского дворянина С. К. Вязмитинова «имела каталог, который служил ее владельцу рабочим инструментом» [17, с. 79]. Этот рукописный каталог, составленный в 1810—1811 гг. самим владельцем, сохранился в фонде РНБ [18, с. 61].
Каталоги владельцев библиотек XVIII в. порой составлялись позднее их потомками. Например, «обширная библиотека русских книг, собранная за двадцать лет деревенской жизни» одним из потомков старинного дворянского рода Грамотиных (Кинешемский уезд Костромской губ.) имела два каталога, составленные внуком (1866 г.) и правнуком (конец XIX в.) первого владельца. Библиотека имела рукописный экслибрис, сохранилось ок. 50 книг [19, с. 130]. Каталоги начала XIX в. отражают уже, как правило, влияние зарождавшейся библиографии. Так, владельческий каталог родовой усадебной библиотеки Брянчаниновых Вологодской губ. 1806 г. состоял из 4-х общих («реестр книгам в старой библиотеке», «книги в бумажном переплете» и т. д.) и многих тематических разделов (Священного писания, истории, географии, путешествий, трагедий, опер и др.), т. е. записи в нем систематизированы [5, с. 100]. Сохранившийся рукописный «Каталог книг» библиотеки известного русского мореплавателя, путешественника, писателя В. М. Головнина был составлен «самим владельцем, а частично переписчиком. В “Каталоге” перечислены названия книг, указаны количество томов и цены отдельных изданий, записано, кем или кому были подарены книги». Книги указаны по 15-ти разделам, на четырех языках, дан их состав» [37, с. 7]. Не всегда владельческие каталоги были столь подробны и систематизированы, есть и другие примеры. Так, «первый краткий каталог» библиотеки вологодских дворян Межаковых начала XIX в. включал более 30 названий книг и журналов, содержал лишь краткое перечисление книг «без указания выходных данных, а часто и автора сочинения». Тем не менее, их состав и «французский переплет» позволил сделать исследователям вывод о том, что «основатель библиотеки был незаурядным библиофилом конца XVIII в.» [6, с. 20]. Для уральского региона нам известно единственное беглое упоминание о каталоге книжного собрания пермского и тобольского генерал-губернатора XVIII в. Е. П. Кашкина в Пушкинском доме [24, с. 42].
Наряду с владельческими каталогами большую значимость для изучения дворянских библиотек XVIII в. имеют описи имущества. В виду важности и особенности этого вида исторического источника, остановимся на нем подробнее. Поводами для составления имущественных описей в дворянскую эпоху могли быть: смерть или разорение владельца, неуплата им долгов (казенных или частных), залог и не выкуп имения и прочего, после чего следовал необходимый раздел имущества между наследниками или передача имения иным лицам. При этом, в большинстве случаев раздел имущества дворян происходил все же на основе юридически оформленного завещания, составленного самим владельцем еще при жизни, и только при отсутствии такого частноправового акта возникала необходимость осуществления сложной процедуры, связанной с описью всего личного и, скажем, заводского имущества.
Этим фактом, очевидно, и объясняется редкость данного вида источника, каждая находка которого — всегда удача для исследователя. Рассмотрим некоторые описанные в литературе примеры. Первая опись известной библиотеки Н. П. Шереметева была составлена после его смерти в 1809 г. (издана в 1883 г.), но она отражала не полностью ее состав, а только московскую часть. Кроме нее «три экземпляра каталога иностранных книг, находящихся в Фонтанном доме в Петербурге» хранятся в архиве С-Петербурга [29, с. 9—98; 35, с. 179, 181]. Костромские помещики, отец и сын Сумароковы, имели богатую библиотеку, насчитывавшую около семи тыс. названий книг, что видно из описи имущества, но судя по малому количеству листов в деле, книги в ней не расписаны. Опись, видимо, была составлена по случаю аукционной распродажи имущества за долги уже после смерти владельцев, в нач. XIX в. [19, с. 128].
Нами ранее были представлены две уральские описи имущества, в составе которых имелись книги: «Опись Благовещенскому медеплавильному заводчика Ивана Мясникова заводу…» 1769 г. и опись, составленная в 1789 г. после смерти А. Ф. Турчанинова, владельца Сысертского горного округа. В последней из них библиотеке отведен огромный раздел, ее объем (несколько тысяч томов) и состав позволяют утверждать, что это была самая крупная дворянская библиотека Урала XVIII в. [24].
Порой владельцы библиотек вели записи в виде дневников, которые дают «возможность реконструировать круг чтения», например, небогатого тульского дворянина А. А. Авдеева [8, с. 177]. Говоря об источниках изучения библиотеки А. Т. Болотова, ее исследователь указывает, что «названия книг приходится выявлять по его мемуарам, статьям, письмам и дневникам», которых «сохранилось более ста томов». При этом она пишет, что «отсутствие описей библиотеки <…> трудность чтения черновых записей Болотова, где в большинстве случаев давались сильно упрощенные и даже измененные названия книг и фамилии авторов, не позволяют пока провести полную реконструкцию библиотеки» [7, с. 79—80]. При изучении библиотеки В. М. Головнина «признаками, на основании которых стало возможным опознать книги» из нее, стали «владельческие надписи В. М. Головнина и его родственников, надписи на книгах, подаренных знаменитому вице-адмиралу, и экслибрисы» его сына [37].
Со второй половины прошлого века ведется издание каталогов реконструированных библиотек XVIII в. (Петра I, Я. В. Брюса, М. В. Ломоносова, Г. С. Батенькова, А. Т. Болотова, А. Н. Радищева и др.), что стало серьезным вкладом в изучение как самих книжных собраний, так и личностей их владельцев, расширило источниковедческие возможности для характеристики особенностей отечественной культуры самого «дворянского» периода в ее истории. В современных книговедческих исследованиях термин «реконструкция» получил широкое распространение, стал, по словам О. Н. Ильиной, «модным», хотя и «понимается исследователями по-разному», а его употребление она считает «не всегда обоснованным» [12, с. 75, 78]. В специальной статье автор выделила наиболее распространенные подходы к реконструкции личных библиотек: один из них, связанный с выявлением в фонде и выделением в самостоятельное хранение книжных собраний, названный ею «физической реконструкцией», относится к деятельности государственных библиотек и музеев. Другой — «создание гипотетического каталога книг, которые могли входить в состав реконструируемой личной библиотеки» исследователь связывает с реконструкцией круга чтения. К отдельному подходу Ильиной отнесено «воссоздание в библиографической форме» состава библиотеки, «отдельные фрагменты или экземпляры которой рассредоточены в различных фондах или хранилищах» [12, с. 77—80]. Этот прием можно проиллюстрировать ярким для уральской книжной истории примером: благодаря описанию экземпляров с автографами заводчика Н. А. Демидова, оказавшихся в разных хранилищах Нижнего Тагила и Екатеринбурга, удалось реконструировать частично его библиотеку [23, с. 148—186]. Наконец, Ильина говорит еще об одном подходе — реконструкции «состава типичных библиотек представителей той или иной социальной, возрастной или профессиональной группы в определенный период и в определенном регионе» [12, с. 86], что видится нам перспективной научной задачей для исследователей личных библиотек уральских дворян-промышленников XVIII в. Схожие, но не столь основательно про- писанные подходы в отношении реконструкции личных библиотек высказывает К. Г. Боленко (называет их уровнями). Кроме «библиографической» и «физической» он предлагает ввести понятие «интерьерной реконструкции», которая позволит «выявление владельческой расстановки» и облика самой библиотеки. Понимая, что такая реконструкция возможна «только в исключительных случаях», Боленко называет ее виртуальной [4, с. 88]. С ним в принципе соглашается и О. Н. Ильина, «дописывая» к его трем уровням еще два: историческую и генеалогическую реконструкции. Под первой она предлагает понимать «воссоздание истории формирования собрания, определение путей ее пополнения, установление верхних и нижних хронологических границ жизни библиотеки», под второй (сам термин, как уже было сказано, впервые предложен М. Д. Афанасьевым) — «выявление книжных собраний, их фрагментов и отдельных экземпляров, влившихся на различных этапах в состав библиотек», «изучение родословия библиотеки по нисходящей и восходящей» [12, с. 88]. Еще одно понятие, принцип книговедческой эвристики, вводит историк Н. А. Бессонова, говоря, о книговедческих разысканиях, необходимых при реконструкции владельческой коллекции: местонахождении владельческой коллекции или ее отдельных экземпляров, изучение печатных источников (библиографических указателей, биографических словарей, каталогов и пр.), личных архивных фондов государственных архивов и т. д. [3, с. 7]. Все эти принципы, как бы они не назывались, в той или иной степени применяются различными исследователями на практике. Обратимся к некоторым примерам подобных реконструкций.
В основе реконструкции библиотеки А. Т. Болотова, предложенной О. Е. Глаголевой, лежат книги с владельческими записями, выявленные ею в фондах нынешних РНБ и РГБ — всего 43 названия, к которым она добавила еще 114 наименований, составленных на основе мемуаров, писем, дневников и литературы о Болотове [7]. Удачный опыт позволил тому же автору поставить вопрос о «реконструкции состава библиотеки и круга чтения Хомяковых», тульских помещиков, с XVIII в. владевших богатым книжным собранием (к середине XIX в. включало более 8 тыс. книг, не считая архива), несмотря на то, что оно оказалось практически утраченным после многочисленных передач из одних хранилищ Тулы и Москвы в другие [8, с. 175—177]. О желательности реконструкции фамильной библиотеки богатых костромских помещиков XVIII в. Семичевых говорил И. Ф. Мартынов на основании того, что в областном архиве Костромы сохранилась основная часть рукописей, а книги имели экслибрис «П.С.» [19, с. 126—127]. Использование сохранившейся в архиве описи книг 1780-х гг. с двумя каталогами (русских и иностранных книг) и других документов позволило сотрудникам отдела редких книг Петербургского (тогда еще Ленинградского) университета выявить в общем книгохранилище большую часть собрания библиотеки П. Ф. Жукова, составить его каталог [9]. На основе изучения книжной описи государственного деятеля и ученого В. Н. Татищева (с привлечением других документальных материалов, нескольких со- хранившихся экземпляров книг) А. М. Сафроновой удалось осуществить реконструкцию этой библиотеки, издать ее каталог [30]. Публикуя список (из 53 названий) реконструкции книг, принадлежавших В. М. Головнину, его автор оговаривает, что ей «удалось собрать очень небольшое количество книг этого некогда обширного собрания», поэтому реконструкция «носит в значительной степени “умозрительный” характер» и дает «только “образ” этого собрания», создает «известное представление о нем» [37, с. 15—16]. С подобной вынужденной оговоркой можно согласиться, но в качестве замечания отметим, что экземпляры в опубликованном списке описаны без ссылок на библиографию и указания инвентарных номеров библиотеки МГУ, в фондах которой они были выявлены. Приведенные примеры подтверждают вывод, сделанный О. Н. Ильиной о том, что «использование комплекса разнообразных, дополняющих и уточняющих друг друга материалов позволяет реконструировать состав личных библиотек даже в тех случаях, когда книжные собрания утрачены» [13, с. 9]. Нам представляется этот вывод особенно важным, поскольку именно такую реконструкцию предстоит осуществить в отношении библиотеки уральского промышленника А. Ф. Турчанинова.
Итак, проведенный анализ показал, что в вопросе изучения личных библиотек XVIII в. в нашей стране накоплен большой опыт. Он включает, прежде всего, целый ряд методик для осуществления трудоемкого и сложного процесса выявления отдельных книжных собраний в общих фондах государственных книгохранилищ, опробованных как крупнейшими библиотеками страны, так и региональными. Разработаны варианты классификаций исторических и библиографических источников, возможных для использования в работе по исследованию и реконструкции личных библиотек, однако, не все они применимы к книжным собраниям XVIII в., имеющим ограничения и свои особенности.
Наконец, описанный опыт реконструкции целого ряда личных библиотек разных территорий России указанного периода показывает разнообразие используемых для этого подходов, вызванных как неповторимостью (даже с учетом общих закономерностей на фоне, скажем, революционных потрясений) историй происхождения, состава, судеб библиотек и их владельцев, так и различными условиями, возможностями в их восстановлении и изучении (рассеивание книг в фондах книгохранилищ — одного или разных, России или других стран, утрата книжных собраний — полная или частичная и т. д.), но главное, — позволяет надеяться на успех в этом направлении и для уральского региона, до сих пор недостаточно исследованного в вопросе выявления и изучения дворянских библиотек XVIII в.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-09-00582.
Список литературы Реконструкция личных библиотек XVIII века: опыт методического исследования
- Афанасьев, М. Д. Генеалогия книжных собраний (к обоснованию новой дисциплины) / М. Д. Афанасьев // Библиотека в контексте истории: тезисы докладов и сообщений науч. конф. Москва, 8-10 июня 1995 г. / Гос. гуманит. ун-т, Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1995. - С. 9-10.
- Беляева, И. М. О выявлении частных книжных собраний XVIII в. в иностранном фонде библиотеки АН СССР / И. М. Беляева, Н. П. Копанева // Книга в России XVI - середины XIX в.: мат-лы и исслед.: сб. научн. трудов. - Л.: БАН, 1990. - С. 89-93.
- Бессонова, Н. А. Частные книжные коллекции в фондах библиотек Самаро-Симбирского региона (в период с 30-х гг. XVIII в. по 20-е гг. XX в.): автореф. дис. … канд. пед. наук / Н. А. Бессонова. - Самара, 2003. - 24 с.
- Боленко, К. Г. Виртуальная реконструкция частных библиотек / К. Г. Боленко // Библиография. - 2004. - № 5. - С. 87-89.
- Бровина, А. А. Дворянские библиотеки Вологодской губернии (XVIII - начало XX века) / А. А. Бровина // Библиотековедение. - 2001. - № 1. - С. 96-103.
- Бровина, А. А. Личные библиотеки Севера России (конец XVIII - начало XX века) / А. А. Бровина, Л. П. Рощевская. - Сыктывкар, 2000. - 93 с.
- Глаголева, О. Е. Библиотека А. Т. Болотова / О. Е. Глаголева // Книга в России, XVI - середина XIX в. Книгораспространение, библиотеки, читатель: сб. науч. тр. / Б-ка Акад. наук СССР; [отв. ред. А. А. Зайцева]. - Л.: [БАН], 1987. - С. 78-95.
- Глаголева, О. Е. Частные книжные собрания как исторический источник: (по материалам Тульской губернии второй половины XVIII - первой половины XIX вв.) / О. Е. Глаголева // Вспомогательные исторические дисциплины. [Т.] 19 / АН СССР, Отд-ние истории, Археогр. комис., Ленингр. отд-ние. - Л.: Наука, 1987. - С. 170-182.
- Горфункель, А. Х. Начало университетской библиотеки (1783 г.). Собрание П. Ф. Жукова - памятник русской культуры XVIII века: каталог / А. Х. Горфункель, Н. И. Николаев. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1980. - 87 с.
- Дворянская и купеческая усадьба в России XVI - XX вв.: исторические очерки. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 784 с.
- Ильина, О. Н. Изучение личных библиотек в России: материалы к указателю литературы на русском языке за 1934-2006 годы / О. Н. Ильина. - СПб.: Сударыня, 2008. - 501 с.
- Ильина, О. Н. О некоторых подходах к реконструкции личных библиотек / О. Н. Ильина // Книжное дело в России в XIX - начале XX века: сб. науч. тр. - Вып. 13. - СПб., 2006. - С. 70-94.
- Ильина, О. Н. Основные группы источников поисков материалов о личных библиотеках / О. Н. Ильина // Личные библиотеки в составе фондов российских книгохранилищ: проблемы изучения. - Вып. 1. Мат-лы научно-методич. семинара (РНБ, С.-Петербург, 18-19 октября 2016 г.); сост. О. Н. Ильина; ред. Г. А. Мамонтова. - СПб.: РНБ, 2017. - С. 9-48.
- Ильина, О. Н. Об источниковедческой базе изучения личных библиотек / О. Н. Ильина, И. Г. Матвеева // Библиофилы России: альманах. - Т. 2. - М.: Любимая Россия, 2005. - С. 9-28.
- Лебедева, И. Н. Итоги и перспективы изучения частных библиотек XVIII в. в составе первоначальных фондов Библиотеки Академии наук / И. Н. Лебедева // Книга в России XVI - середины XIX в.:мат-лы и исслед.: сб. научн. тр. - Л., 1990. - С. 81-88.
- Лесовая, И. В. Частная книжная коллекция: мемориальный аспект / И. В. Лесовая // Вестник СПбГУКИ. - 2014. - № 2 (19) июнь. - С. 82-86.
- Любавин, М. А. Библиотека графа С. К. Вязмитинова / М. А. Любавин // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. - М.: Наука, 1995. - С. 59-64.
- Любавин, М. А. О библиотеке графа С. К. Вязмитинова / М. А. Любавин // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства: тезисы сообщений 3-й Всесоюз. науч.-практ. конф.); Всесоюз. добровольное о-во любителей кн.; сост. и отв. ред. В. А. Петрицкий. - Л.: Б. и., 1989. - С. 77-80.
- Мартынов, И. Ф. Книжные собрания в русской провинции конца XVIII - начала XIX в. (по материалам книговедческого обследования библиотек, музеев и архивов Костромы. 1980 г.) / И. Ф. Мартынов // Книготорговое и библиотечное дело в России XVII - первой половины XIX в. - Л., 1981. - С. 119-134.
- Никитина, Е. М. Книги из усадебных библиотек в Ярославской областной библиотеке им. Н. А. Некрасова / Е. М. Никитина // Усадебные библиотеки - история и современность (русская усадьба XVII - нач. XIX в. Проблемы изучения, реставрации и музеефикации): мат-лы науч. конф.; Гос. лит.-мемор. музей-заповедник им. Н. А. Некрасова «Карабиха»; Яросл. ОУНБ. - Ярославль: Александр Рутман, 2002. - С. 11-14.
- Николаев, Н. И. Зарубежная книга в собрании русского библиофила XVIII в. П. Ф. Жукова / Н. И. Николаев // Федоровские чтения. 1979 / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. - М.: Наука, 1982. - С. 187-204.
- Петина, Л. И. Из истории поместных библиотек Эстонии XVIII: собр. книг А. Г. Бобринского в замке Оберпален (Пальтсамаа) / Л. И. Петина // Книги и книжные собрания: история и судьбы: тез. докл. науч. конф. / Гос. Эрмитаж; науч. ред. Г. В. Вилинбахов. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2003. - С. 50-52.
- Пирогова, Е. П. Библиотеки Демидовых. Книги и судьбы / Е. П. Пирогова. - Екатеринбург: ИД «Сократ», 2000. - 208 с.
- Пирогова, Е. П. Дворянские библиотеки Урала XVIII века: источники и предварительные итоги изучения / Е. П. Пирогова // Вестник культуры и искусств / Челяб. ГАКИ. - 2017. - № 4 (52). - С. 39-47.
- Пирогова, Е. П. Музейные фонды Урала и Западной Сибири как источник изучения духовного наследия российского провинциального дворянства: к постановке проблемы / Е. П. Пирогова // Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах - важнейшие факторы стабильного развития России: сб. науч. тр.; отв. ред. Е. Ю. Смирнова, Н. А. Томилов. - Омск: ИД "Наука", 2016. - С. 404-407.
- Пирогова, Е. П. Опись имущества А. Ф. Турчанинова 1789 г. как источник изучения культурно-бытовых традиций уральского дворянства / Е. П. Пирогова // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. - 2017. - Т. 19. - № 1. - С. 146-159.
- Пирогова, Е. П. Сводный каталог книг гражданской печати XVIII - 1-й четверти XIX века в собраниях Урала / Е. П. Пирогова: в 2 т. - Екатеринбург: ИД «Сократ», 2005; 2007. Т. 1: А-М. - 528 с.; Т. 2: Н-Я. - 584 с.
- Пирогова, Е. П. Найти, сохранить, изучить: книжные памятники Урала стали доступны / Е. П. Пирогова // Мир библиографии. - 2013. - № 2. - С. 41-48.
- Прокофьева, Л. С. О библиотеке Шереметевых / Л. С. Прокофьева, И. С. Шаркова // Книга в России. XVI - середина XIX в. Книгораспространение, библиотеки, читатель: сб. науч. тр.; Б-ка Акад. наук СССР; [отв. ред. А. А. Зайцева]. - Л., 1987. - С. 96-101.
- Сачкова, Г. С. Частные библиотеки в России: библиотека А. С. Норова / Г. С. Сачкова // Известия Саратовского университета. Сер.: История. Международные отношения. - 2011. - Т. 11. - Вып. 1. - С. 34-39.
- Сафронова, А. М. В. Н. Татищев и библиотеки раннего Екатеринбурга: опыт исторической реконструкции / А. М. Сафронова. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. - 552 с.
- Свалова, О. М. Библиотека князя А. И. Вяземского / О. М. Свалова // Книга. Исследования и материалы. - Сб. 79. - М., 2001. - С. 279-285.
- Сомов, В. А. Брауншвейгская библиотека князя Дмитрия Алексеевича Голицына / В. А. Сомов // История библиотек: исследования, материалы, документы. - Вып. 3. - СПб.: БАН, 2000. - С. 170-193.
- Уральские книжные памятники: справочник-путеводитель по фондам редких книг Челябинской области. - Челябинск: Челяб. Дом печати, 2003. - 128 с.
- Шавыркина, Н. А. История библиотеки Шереметевых / Н. А. Шавыркина // Книга. Исследования и материалы: сборник. - Т. 65. - М.: Кн. палата, 1993. - С. 172-188.
- Шавыркина, Н. А. Личная библиотека как социо-культурное явление: автореф. дис. … докт. ист. наук / Н. А. Шавыркина. - М., 2000. - 44 с.
- Шульговская, Н. И. Личная библиотека В. М. Головнина (опыт реконструкции) / Н. И. Шульговская // Из коллекций редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - С. 5-23.