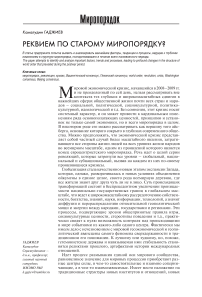Реквием по старому миропорядку?
Автор: Гаджиев Камалудин Серажудинович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Миропорядок
Статья в выпуске: 10, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка выявить и анализировать важнейшие факторы, тенденции и процессы, ведущие к глубоким изменениям в структуре миропорядка, господствовавшего в течение всего послевоенного периода.
Миропорядок, революция, кризис, вашингтонский консенсус, пекинский консенсус
Короткий адрес: https://sciup.org/170166092
IDR: 170166092
Текст научной статьи Реквием по старому миропорядку?
М ировой экономический кризис, начавшийся в 2008—2009 гг. и не преодоленный по сей день, нельзя рассматривать вне контекста тех глубоких и широкомасштабных сдвигов в важнейших сферах общественной жизни почти всех стран и наро-дов — социальной, политической, социокультурной, политико -культурной, идеологической и т.д. Без сомнения, этот кризис носит системный характер, и он может привести к кардинальным изме нениям ряда основополагающих ценностей, принципов и устано-вок не только самой экономики, но и всего миропорядка в целом. В некотором роде его можно рассматривать как вершину того айс-берга, основание которого сокрыто в глубинах современного обще -ства. Можно предположить, что экономический кризис представляет собой частный случай более масштабного явления, затраги-вающего все стороны жизни людей на всех уровнях жизни народов во всемирном масштабе, одним из проявлений которого является конец евроцентристского миропорядка. Речь идет о целой серии революций, которые затронули все уровни — глобальный, нацио-нальный и субнациональный, вызвав на каждом из них по своему проявляющиеся кризисы.
Глобализация стала качественно новым этапом экспансии Запада, которая, однако, разворачивалась в новых условиях объединения ойкумены в единое целое, своего рода всемирную деревню, где все жители знают друг друга чуть ли не в лицо. Суть происходящих трансформаций состоит в беспрецедентном увеличении проницае мости национально - государственных границ в глобальном мас -штабе, что ведет к широкомасштабному рассредоточению собствен -ности, богатства, знаний, науки, информации, технологий, а значит диффузии и перераспределению относительной геополитической мощи и энергии между народами, государствами и регионами. Эти процессы, подвергающие эрозии общепринятые правила игры, социокультурные ценности, стереотипы поведения и т.д., практи-чески сводят к нулю возможность контроля над происходящими в мире событиями из какого-либо одного центра. Фактически мы имеем дело с исчезновением с мировой геоэкономической и геопо литической авансцены самого феномена сверхдержавности в тра диционном его понимании. К лучшему или худшему, но, похоже, гегемонистские державы и навязываемая ими стабильность стано-вятся реликтами прошлого, артефактами истории международных отношений.
Идет процесс размывания единой оси мирового сообщества, равновеликое значение для мировых процессов приобретают раз -ные центры силы, в чем то самостоятельные и взаимно соперни чающие, а в чем-то взаимозависимые. Имеет место наложение на традиционные структуры новых институтов и отношений, новых форм сотрудничества и конкуренции, партнерства и взаимного противодействия, консенсуса и конфликта и т.д. Происходит своеобразное раздвоение мира, мировая политика осуществляется как бы на двух аренах. С одной стороны, мы имеем систему взаимоотношений государств, которая функционирует, соблюдая принципы межгосударственных отношений в соответствии с уста-новками традиционной дипломатии и защиты национальных интересов и, самое главное, национального суверенитета. С другой стороны, речь идет о транснациональном глобальном мире, где суверенитет национального государства постепенно сужается, решения, принимаемые по тем или иным жизненно важным для его граждан вопросам за пределами государства, нередко приобретают большую значимость, чем решения, принимаемые властями самого этого государства.
В наши дни многие из важнейших участников мирового сообщества – это негосударственные акторы. Таковы крупные экономические организации, транснациональные банки и промышленные корпорации, не признающие государственного суверенитета, действующие одновременно во многих странах и при обретающие там огромную экономическую власть.
Широкомасштабные политические движения, такие как исламский фундаментализм, террористические группы или сецес-сионистские движения внутри отдельных стран становятся важными акторами мировой политики и иногда вовлекаются в крупные межгосударственные конфликты. Все это в совокупности как бы кладет конец разделению социальных, политических, экономических процессов по сугубо географическим или территориальнопространственным параметрам, переводя их в некое «внегеографическое» измерение, накладывая друг на друга международное, транснациональное, региональное и глобальное начала. Наблюдается тенденция к неуклонному возрастанию веса и влияния малых стран, располагающих серьезным на-учно-техническим и финансовым потенциалом.
В такие периоды подвергаются эрозии или вовсе исчезают некоторые из основопо-лагающих ценностей, институтов, отношений и т.д., которые в совокупности составляли инфраструктуру прежней системы и обеспечивали ее единство, жизнеспособность, формы и направления функционирования. Именно такие пертурбации или турбулентные со стояния влекли за собой распад великих цивилизаций и империй, мировых держав и, со ответственно, господствовавших в разные исторические периоды форм миропорядка и появление на их месте новых. Большей частью их значимость состоит в том, что в процессе их преодоления устраняются устаревшие, исчерпавшие свой ресурс, показавшие свою нежизнеспособность узлы, элементы и формируются новые элементы и структуры, более соответствующие новым реальностям. Это, как сказал бы Й. Шумпетер, «созидательное разрушение», под которым подразумевается избавление от старого для расчистки места для созидания нового.
Именно как такое «созидательное разрушение» можно интерпретировать нынешний мировой кризис. Речь, по-видимому, идет об эрозии или, так сказать, помутнении самой господствовавшей до сих пор картины мира в целом и модели капитализма, основанной на принципах так называемого Вашингтонского консенсуса, в качестве своего рода кровеносной системы которой служат виртуальные деньги – деривативы и беспрецедентно быстрыми темпами растущие долги. В этом смысле можно утверждать, что речь, по сути дела, идет о целом комплексе кризисов, охватывающих все стороны жизни как развитых, так и развивающихся стран, кризисов, которые подвергают эрозии сами основы современной западной цивилизации.
Особенность нынешней ситуации состоит в том, что глобализация постепенно претерпевает своего рода инверсию, поскольку она во все возрастающей степени стала отвечать интересам бурно поднимающегося Востока, понимаемого в самом широком смысле слова. Если раньше Запад только наступал, то в нынешних условиях он постепенно вынужден занимать оборонительные позиции.
Как представляется, проблема состоит в том, что современный капитализм в его западной, прежде всего в англосаксонской, ипостаси достиг того предела, когда подвергаются существенной трансформации сама парадигма, инфраструктурные составляющие, суть системы. Кризис воочию показал несостоятельность мифов об универсальности и неза- менимости буквалистски понимаемых «невидимой руки» и «саморегулирующегося рынка», исповедуемых монетаристами и приверженцами Вашингтонского консенсуса. Об обоснованности данного тезиса свидетельствует тот факт, что кризис фактически снимает пелену необъяснимости, если хотите, парадоксальности с удивительного феномена китайского экономического чуда. В то время как те национальные экономики, которые исповедуют мифологию «невидимой руки» и Вашингтонского консенсуса, переживают серьезные катаклизмы, перечеркивающие многие традиционные теории функционирования рыночной экономики, китайская экономика, действующая на принципах регулирования рыночных правил игры государством, продолжает путь неуклонного экономического прогресса. Более того, все более растущую популярность получает так называемый Пекинский консенсус, призванный обозначить китайскую модель модернизации, которая предполагает ведущую роль государства в экономике, приоритет национального суверенитета над принципами Вашингтонского консенсуса.
В данной связи интерес представляют оценки этих и связанных с ними процессов и тенденций высшими руководителями и представителями научного сообщества западных стран. Так, президент Франции Н. Саркози на встрече стран «двадцатки» в Берлине в феврале 2009 г. говорил о необходимости «создавать капитализм с основ», в т.ч. и его моральную составляющую. Одну из возможных направлений достижения этой цели он видел в пересмотре действующей модели экономической системы и постепенном переходе к «регулируемому капитализму». Эту мысль Саркози предельно ясно выразил в своем выступлении на Давосском форуме 27 января 2010 г. «Без вмешательства государства все бы просто рухнуло, – заявил он. – Утвердилось мнение, что рынок прав всегда... Это породило мир, где все отдавалось финансовому капиталу и почти ничего трудящимся»1.
Суть вопроса состоит в легитимации окончания однополярного экономического миропорядка, в важнейших своих параметрах основанного на националь- ных экономиках евро-атлантической зоны (с включением сюда Японии). Мировая экономика окончательно превратилась в полицентрическую систему, поскольку наряду с евро-атлантической составляющей в качестве равноправных ее несущих конструкций заявили о себе новые центры экономической мощи, такие как Китай, Индия, новые индустриальные страны, Россия. Частью этого процесса стала легитимация полицентрической финансовой системы, в которой, наряду с традиционными финансовыми центрами – Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Токио, – возникли новые центры – Гонконг, Шанхай, Сингапур, Мумбай, а в перспективе, возможно, Москва. Соответственно, начался процесс постепенной утраты долларом гегемонии в мировой валютной системе, на смену которой должна прийти новая мировая валютная система, в которой доллару будет отведено свое место в ряду других национальных и региональных валют.
При этом представляются не совсем корректными и лишенными оснований всякого рода рассуждения о грядущей смене американского века китайским или каким-либо иным национальным веком, рынка – какой-либо совершенно иной экономической системой, Вашингтонского консенсуса – Пекинским и т.д. Дело нельзя представлять как окончательное перемещение всемирного центра концентрации капитала из одной географической точки в другую, т.е. о возможной утрате Западом в целом и США в частности статуса средоточия экономической и военнополитической мощи. Конец евроцентрист-ского мира отнюдь не означает, что Запад в целом и США в частности канут или уже канули в Лету и на их смену приходит или уже пришел востокоцентристский мир (по формуле: ex Oriente lux – свет исходит с востока). Просто наряду с ними возникают новые, равновеликие им центры экономической и военно-политической мощи. До недавнего времени говорили: когда американская экономика чихает, экономика остального мира схватывает пневмонию. Теперь эта формула переносится на Китай. Впрочем, как показали протекание и перипетии нынешнего экономического кризиса, достаточно одно чихание каких-нибудь Дубая или Греции, чтобы у всего остального мира появилась простуда, а то и воспаление легких.
Признанием реальности полицентрического мира и роста экономической мощи новых глобальных игроков и региональных интеграционных группировок как новых несущих конструкций миропорядка стало расширение «большой восьмерки» до формата «большой двадцатки».
Пекинский консенсус или какой-либо иной его аналог служит констатацией факта наступления своего рода осевого времени для трансформации мировой экономической системы на новых принципах взаимодействия государства и рынка. Впрочем, консенсусы – консенсусами, но любое самодостаточное государство, тем более любая великая держава, не обнаруживает склонности в обозримой перспективе передавать бразды управления своей национальной экономикой какому-либо внешнему наднациональному институту. Даже при согласии с теми или иными положениями какого-нибудь нового издания Вашингтонского или предполагаемого Пекинского консенсуса прерогативы принять окончательные решения по жизненно важным вопросам экономического характера, разработке и реализации основополагающих правил игры в сфере национальной экономики, как представляется, в конечном счете, останутся в столицах соответствующих государств, а не в Вашингтоне или Пекине. Поэтому важно научиться избегать фундаментализма – как рыночного, так и институционального, как Вашингтонского, так и Пекинского консенсусов. Необходимо стремиться найти приемлемое для каждой конкретной ситуации медианное пространство между рынком и государственным регулированием, между двумя консенсусами.
Еще в начале 60-х гг. минувшего века Р. Арон писал, что «упразднение одного из гигантов скорее всего не сделало бы другого властителем мира даже на бумаге»1. В современных условиях скорее всего реален вариант, при ко тором относительное ослабление позиций США не обязательно приведет к появлению но вых гегемонистских держав, будь то в политической или экономической сфере.
Концепции однополярного или биполярного миропорядка являются артефактами прошлого и не стыкуются с реаль- ностями полицентрического миропорядка. Однако, несмотря на очевидные трансформации, радикально изменившие сами бытийные основы социальной, экономической, политической самоорганизации народов, эти понятия продолжают занимать умы даже видавших мир и историю аналитиков. Как известно, в 90-х гг. минувшего и в самом начале первого десятилетия нынешнего века были популярны идеи пришествия нового биполярного миропорядка в случае окончания якобы господствовавшего в тот период однополярного миропорядка. В качестве партнера США предлагались то Евросоюз, то Япония, говорили также о возможности наступления то ли Pax Nippoinca, то ли Pax Europeana, то ли Pax Sinica. Теперь же часть пишущей братии, в т.ч. серьезные аналитики, одержимы идеей Pax-Chimericana (сочетание China и America), или Химерики, т.е. биполярного миропорядка – «Китаеамерики».
В условиях мирового экономического кризиса эта идея получила дальнейшее развитие. Так, накануне инаугурации избранного президентом США Б. Обамы в The Independent появилась статья Г. Киссинджера, в которой была предпринята попытка анализировать перспективы мирового развития в контексте глобального экономического кризиса 2008– 2009 гг. По его мнению, кризис нанес серьезный удар по престижу США. Его результатом стало разочарование многих стран в архитектуре мировой экономической системы. Киссинджер видел один из путей недопущения хаоса мирового масштаба в том, чтобы «ядро» будущего миропорядка составили США и КНР2. Вторя ему, З. Бжезинский утверждал, что союз с Китаем поможет США «сдерживать экспансионистские устремления России» в Европе и на постсоветском простран-стве3.
В этой связи интерес представляет тот факт, что сами руководители Китая приняли подобные идеи отнюдь не с энтузиазмом. Как заявил на саммите Евросоюза и Китая, состоявшемся в мае 2009 г. в Праге, премьер-министр этой страны Вэнь Цзябао, «говорить о доминировании двух стран в международных делах абсолютно необоснованно и ошибочно». Дело в том, что у Китая, во всяком случае в обозримой перспективе, будет множество собственных весьма серьезных внутрен-них проблем с его огромным населением и пробелами в развитии и благосостоянии.
Анализ реального положения вещей показывает, что речь идет, по сути дела, о необходимости поисков новой фило -софии, новой методологии реформирова ния мировой экономики с учетом тех глу-бочайших трансформаций, которые про -изошли в системообразующих структурах современного мира. В условиях полицен -трического миропорядка представляются утопическими всякие попытки разрабо тать некую единую, одинаково пригодную для всех без исключения стран и народов модель выхода из кризиса и перестройки национальной экономики. Поэтому новый мировой порядок никак нельзя свести к какой либо одной модели, навя занной мировому сообществу какой либо одной, даже самой могущественной дер жавой или группой сильнейших в военно -политическом и экономическом отноше -нии держав.
При всем том очевидно, что в новых реальностях нуждаются в коренной пере оценке традиционные понятия гегемонии национальных интересов, национальной безопасности, сфер влияния и т.д. При таком положении вещей некоторые отече ственные аналитики предрекают России статус «младшего брата» либо США, либо восходящего Китая, которые, по их мнению, составят несущие конструкции нового двухполюсного миропорядка. Одни из них видят спасение России в том, чтобы стать союзником США в ущерб отношениям с Китаем, а другие, наоборот, — сблизиться с Китаем в его противостоя -нии с США.
Однако в современном мире рассчиты-вать на самосохранение, национальный суверенитет и способность отстаивать и продвигать свои национальные интересы могут лишь те государства, которые обла дают политической волей и стремлением учитывать императивы новых мировых реальностей, без чего невозможно на рав ных конкурировать с ведущими мировыми державами. Как говорили древние, si vis pacem, para bellum , т.е., если хочешь мира, готовься к войне. Поэтому России ни при каких условиях нельзя допустить сни жения своего статуса до уровня ядерных держав - середнячков, таких как Франция и Великобритания.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-03-00611а.