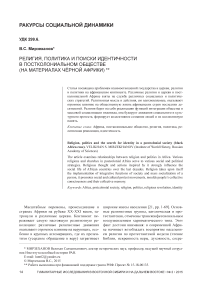Религия, политика и поиски идентичности в постколониальном обществе (на материалах чёрной Африки)
Автор: Мирзеханов В.С.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Ракурсы социальной динамики
Статья в выпуске: 2 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам взаимоотношений государства и церкви, религии и политики на африканском континенте. Различные религии и церкви в постколониальной Африке взяты на службу различных социальных и политических стратегий. Религиозная мысль и действия, ею вдохновляемые, оказывают огромное влияние на общественную жизнь африканских стран последних десятилетий. Религия берет на себя реализацию функций интеграции общества и массовой социализации индивида, она будирует движения социального и культурного протеста, формирует коллективное сознание людей и их коллективную память.
Африка, постколониальное общество, религия, политика, религиозная революция, идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170175577
IDR: 170175577
Текст научной статьи Религия, политика и поиски идентичности в постколониальном обществе (на материалах чёрной Африки)
Масштабные перемены, происходившие в странах Африки на рубеже XX-XXI веков, затронули и различные церкви. Континент переживает самую настоящую религиозную революцию: различные религиозные движения оказывают огромное влияние на верующих, особенно в крупных агломерациях, где их прозен-тизм (усердное обращение в веру) затрагивает широкие массы населения [21, pp. 1-69]. Основные религиозные группы, католическая и протестантская, отмечены трансконфессиональным воодушевлением харизматического типа. Этот факт достоин внимания: в современной Африке начинает возобладать восприятие населением религии по протестантской модели (чтение Библии, искренность веры, духовность, сосре- доточение на молитве, активное участие мирян в управлении общиной) [14].
Происходящие в африканских церквях перемены и религиозные инновации серьезно сказались на политических процессах в Африке.
Африка продолжает поиски путей общественного развития, она пытается изобрести свою собственную модернизацию в общении с Господом. Однако следует признать, что взаимодействие политического поля с религиозным осуществляется здесь по более сложной схеме, чем, например, в исламских странах Ближнего Востока или Магриба. Религиозная ситуация в Африке южнее Сахеля весьма подвижна, многие государства региона – Сенегал, Мали, Нигер, Демократическая Республика Конго, Камерун – представляют собой, по словам Ж.-Ф. Байяра, «необычные лаборатории», где формируется новое культовое пространство. Религиозные инновации, безусловно, влияют на политические процессы: религия не только становится средством и инструментом политики, но и «фактором интерпретации политики» [22, p. 11-12].
В условиях Африки мистико-религиозная интерпретация речей и действий государственных деятелей создают или разрушают образ политика, во многом определяют его репутацию. Возвышение или, наоборот, ослабление влияния политика неразрывно связаны с теорией сверхъестественности, которая определяет положение власть имущих [2, p. XII, 122, 192]. Борьба между могущественными людьми принимает форму состязания в магии, где сторонники политика требуют от совета старейшин признать правоту их «чемпиона», а конкуренты протестуют, пытаются разоблачить необоснованность его притязаний на власть [9, p. 165].
Политические деятели не пренебрегают возможностями религиозного обоснования власти, согласно исследованию М.-Э. Грюене, магия и религия стали ключевыми элементами структура-лизации общественных и властных отношений в бассейне реки Конго [8, pp. 221-227]. Политическая борьба в Конго подтверждает вывод К. Кулона о том, что «святое, священное является основной линией африканских политических культур и их историчности» [22, p. 61].
Поиск религиозной легитимности характерен для многих африканских лидеров. К. Тулабор показал, как личность главы африканского государства (президента Того Эйадема) приобрела законность божественного характера [22, pp. 279-296]. Все начиналось после несчастного случая с самолетом, после которого Эйадема выжил. Предста- вители всех религий увидели в этом божественное покровительство, они соперничали между собой, вознося хвалу главе государства, и предложили построить мавзолей на месте падения самолета. Президента объявили богоизбранником, в час, когда бьют колокола в церквах, по радио звучал гимн его партии, его мать часто сравнивали с матерью Христа.
Размышляя о культе Эйадема, Тулабор делает вывод: свалка истории наполнена воспоминаниями о политических лицах, присвоивших себе божественные атрибуты, которые вызывают у народов только насмешки. К. Тулабор приветствует эту насмешку и явно участвует в ней. Но мусорная свалка, о которой он говорит, все еще заполнена великими вождями, «учителями» африканской земли. Свалки истории пока не готовы к очищению.
Говоря о политическом значении религиозного фактора, необходимо хотя бы коротко рассмотреть роль исламского фактора в Черной Африке. К. Кулон считает, что нужно различать ислам, который привносится в политические дебаты (путем дебатов по шариату), и ислам насилия, радикальный ислам, цель которого изменить политический строй [22, p. 67]. В исламе сосуществуют антагонистические тенденции, которые представлены исламом реформистским и исламом тысячелетним (традиционным). Есть еще ислам улицы, «синкретный, практический, терапевтический», формально организованный в местные малла-мы, приверженцы которого не только «стараются знать текст ислама, но и стремятся приобрести социальные навыки» [22, pp. 47-48]. Этот ислам противопоставляется исламу элиты, «нормативному, цивилизаторскому, который делает акцент на тексте Корана и исламских ценностях» [22, p. 49].
Радикальное направление ислама далеко не едино: в Африке есть течение ислама, которое считает себя очищенным, боевым, критикующим традиционные власти с теми акцентами, которые напоминают ваххабизм в Саудовской Аравии; но наряду с этим есть еще проиранский радикальный исламизм, борющийся одновременно против правителей, высших чиновников, чужих религий и империализма [22, pp. 50-51].
Исламские группировки, попавшие под влияние радикальных исламистов, становятся весьма значительной силой в Субсахарской Африке.
Говоря об «инструментализации» ислама, необходимо подчеркнуть, что он позволяет расшифровать и объяснить беспорядки и коррупцию, исламская культура говорит на понятном простым людям языке и переносит гегемонистские планы
РАКУРСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ в область «культурного поля». Безусловно, идеи и высказывания исламистов, происходящие из джихада, представляют собой конфликтное явление, однако в сочетании с коллективной памятью африканцев они позволяют каждому человеку сформулировать свое собственное видение, свою собственную модель исламского общества. Противоречия в интерпретации этого наследия и проявились в том расколе, который испытывает в настоящее время африканский исламизм.
Проблема религии и политики недостаточно изучена применительно к Африке, и только в последние годы историки, антропологи, политологи начали анализ отношения между этими двумя самостоятельными феноменами [21, pp. 1-69], [22], [13]. Первые же исследования показали, что методы и традиции классической науки себя исчерпали. Прежняя проблематика взаимоотношений между Церковью и Государством (или, говоря языком ислама, между дин и довлат) основывается на двух ошибочных тезисах-предубеждениях, способных, однако, идеологически удовлетворить убежденных приверженцев светскости. Прежде всего, тезис-иллюзия, согласно которому каждый из двух феноменов является однородным и неизменным фактором. Ашил Мбембе доказал нам в «Непокорной Африке», насколько разнородно христианство, красиво назвав эту ситуацию «религиозным сожительством» [16, p. 32]. Кристиан Кулон, Рене Отайек наглядно показали, что такой подход не имеет ничего общего с исламом. Исламофобия, смешивающая веру в Пророка и мракобесие, получившая столь широкое распространение в интеллектуальных кругах Запада и России, является еще одним наряду с прочими проявлением изначальной ошибки в методике. Как следствие она сводит понимание политических реалий такой страны, как Сенегал, лишь до границ опасной игры «пан или пропал»: всегда чрезмерная светскость, всегда чрезмерное франкоязычие, чрезмерная вестернизация, чрезмерная демократия противопоставляются захвату власти исламской гидрой.
Вторая иллюзия, не менее классическая и переплетающаяся с первой, основывается на постулате о внешнем характере связи между религией и политикой там, где всегда превалировали обмен и взаимозависимость, либо в виде антагонизма, либо амбивалентности. Данный подход нельзя считать полностью неверным. В законченном виде такой подход даже позволил рассмотреть религиозные организации в качестве факторов, заменяющих политические организации, особенно в авторитарных и тоталитарных государствах
[10, pp. 437-549]. Тем не менее, он обходит стороной многие вопросы, поставленные А. Токвилем, которые позднее были систематизированы в веберовской социологии. Между религией и политикой простирается серая зона, в пространстве которой религия влияет на процессы политического и экономического развития либо частично, либо временно.
Общеизвестно, что М. Вебер усмотрел в этике некоторых течений протестантизма одну из основных исторических направляющих духа капитализма. В последние годы эта концепция стала очень модной в среде российских гуманитариев, некритически воспринявших идеи выдающегося немецкого социолога. Между тем на Западе идеи М. Вебера подверглись серьезной критике и в полном виде не принимаются [5, 24]. Но при этом не оспаривается его основной тезис: религия может участвовать в процессе модернизации, но эта роль скорее «невольная», иными словами «данное участие не может быть простым и однозначным» [24, p. 54].
Достоверность этих выводов была доказана с обилием подробностей на материалах Западной Европы. По мнению Э. Трельча, «протестантство не являлось непосредственным вынашиванием современного мира», как раз напротив, новый мир появился «как обновление и объединение идеала культуры, противоположной церкви» [24, pp. 67-68, 111].
При этом автор признает сам факт воздействия, но рассматривает его как «воздействие, оказанное помимо собственной воли» [24]. Впрочем, западное обновление, как политическое – под видом абсолютистского государства, так экономическое и культурное, многим обязано католицизму, в частности контрреформе [6].
Вклад религии в процессы модернизации: свойствен ли он только христианству? Мы имеем полное право сомневаться в этом, несмотря на слишком торопливые и снисходительные страницы, посвященные Максом Вебером индуизму, исламу или «магии». В юго-западной Азии утверждение религиозной самобытности зачастую являло собой способ принятия политических институтов западного типа, с соблюдением при этом национальной специфики [19, pp. 90-91]. В Индии националисты, ратующие за индуизм, путем использования процедуры «стратегического синкретизма» безапелляционно привносят в него чуждые культурные черты, как, например, формы равноправного индивидуализма, прозелитизма и культурных структур; они также предоставляют аборигенам, членам низших каст и женщинам возможность со- циального роста [11]. Наконец, в странах Магриба и Черной Африки исламизм – феномен городской и современный – представляет собой синтез или, по крайней мере, компромисс между мусульманским миром и Западом; компромисс, используя который, сегодня пытается вернуть на политическую арену неофундаментализм [23].
В то время, когда Черная Африка погружается в стадию экономического регресса и колеблется между демократией, реставрацией авторитаризма и войной, она испытывает мощную религиозную мобилизацию, тональность которой носит, скорее, социальную или фидеистскую окраску, чем политическую. Естественно, и мы это показывали, ее политические деятели охотно торгуются с Богом. Но редко встречаются ситуации, когда религиозные выступления связаны со спекуляцией реальными политическими проблемами, как, например, марш христиан в Киншасе 16 февраля 1992 г. [12, pp. 209-231]. Какой бы ни была роль прелатов католической церкви в организации и проведении Суверенных Национальных Конференций, их призывы к примирению и политическому строительству, политические реформы рубежа 1980-х–90-х годов имели другие истоки [26, pp. 43-60]. Характерно, что процесс реставрации авторитаризма, пущенный вскоре в ход власть предержащими, не потопил волну политического плюрализма, а выдвинул на первый план идею этнонационалисти-ческой мобилизации, как это произошло в Заире, Камеруне, Того, но не идею религиозной самобытности. Она является вторичной, второстепенной в главных конфликтах Субсахарской Африки. Вторичной, но не отсутствующей: в Чаде, Судане, Эритрее, Эфиопии, Либерии, Уганде разногласия между христианами и мусульманами часто принимают радикальные формы. И очень похоже, что обоюдное недоверие между приверженцами двух мировых религий, двух монотеизмов станет тяжелым грузом в ближайшие годы для Танзании, серьезнее, чем конституционное и экономическое различие между Занзибаром и Дар-эс-Саламом. Это не мешает тому, чтобы анализ многогранных и зачастую парадоксальных «антагонистских взаимосвязей» между государством и «религиозным режимом», определенным М. Баксом как «институционное и формализованное созвездие людских взаимосвязей переменной силы, узаконенное религиозной мыслью и распространяемое религиозными деятелями», [4, pp. 1-11] – казался более плодотворным для понимания реалий Черной Африки, чем классической подход, делающий акцент на внешнее, поверхностное, упрощенное понимание проблемы и абсолютизирующее конфликт и отчуждение между обеими сферами. Следуя неотоквилизму или неовеберизму, три вопроса относительно роли религии в модернизации субсахарского пространства заслуживают более систематического рассмотрения. Первый касается отношения, устанавливающегося между новой политической конфигурацией и религиозными инновациями в Черной Африке. Еще раз повторяем вслед за Ж.-Ф. Байяром, что «противоречивые взаимосвязи», имеющие место в отношениях между государством и «религиозными режимами» южнее Сахары, отнюдь не являются грузом «традиций» [22, p. 304]. Они – плод новейшей практики и споров. Естественное тому подтверждение – догматика и практика независимых церквей, религиозных сект, культов владения, синкретических движений [17]. Но даже в самом сердце двух мировых религий, главенствующих в африканском культовом пространстве, очень похоже, что новшества одерживают верх над простым следованием догме или традиции [18]. Несмотря на осторожность, с которой католическая иерархия установила второй Ватикан на этой части континента, несмотря на особое внимание, с каким понтификат следил за малейшим проявлением чего-то, хотя бы отдаленно напоминающего негро-африканскую версию «теологии освобождения», или за «слишком поспешным» вступлением прелатов на демократическую арену, процесс «раскульту-рирования» развивался по относительно консервативной схеме. В итоге Ватикану, бессильному что-либо противопоставить, пришлось признать созыв африканского синода для обсуждения политических проблем континента и одобрить его решения. В местных приходах динамика религиозных новаций еще более очевидна, например, в терапевтической практике [7].
Параллельно африканский ислам претерпел серьезную эволюцию, в основе которой, несомненно, лежит экономический кризис. Рене Отай-ек наглядно проиллюстрировал, как произошел подъем исламского реформизма в Буркина Фасо [22, p. 11]. С приходом к власти революционного правительства Санкары исламские реформисты стали лидерами уммы, отодвинув на второй план выразителей традиционного ислама – имамов [22, p. 115]. Их востребованность была связана с теми целями, которые провозгласил новый режим: «создание морального кодекса общественного порядка, уменьшение социальной пестроты, право на труд для всех» [22, p. 118]. На материалах Буркина Фасо Рене Отайек показывает, что ислам прошел путь изменений потому, что религиозное поле является местом социальных перемен, одно-
РАКУРСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ временно представляющим собой арену политического передела. Причем носителями культовых новшеств выступают не только низшие и средние слои, как, например, в случае культа хавка в Нигере [22, pp. 199-201], но и высшие круги, как в Того, под видом организованного культа вокруг личности генерала Эйадема [22, p. 279]. Важно заметить, что религиозная практика и обряды, на основе которых строится новое культовое пространство, новый культовый очаг, весьма разнородны и распределены между многими социальными группами и агентами. В ядре культового очага заложена процедура «заставить верить».
Второй вопрос, привлекающий пристальное внимание сторонников антропологического подхода, это отношения, устанавливающиеся между культовыми инновациями в африканских обществах и международной системой в связи с глобализацией мира [21, pp. 14-15].
От ислама до великих пророчеств, проходя через различные местные культы, религиозные движения принимали непосредственное участие в вовлечении континента в процесс глобализации; они давно перешли границы конкретных «этносов» и этнических групп. В Африке наблюдается «подъем транснациональных течений», в частности, религиозных течений в ходе «мирового переворота» [3] (глобализации. – прим. авт. ). Традиционно на Западе проявляют беспокойство по поводу усиления влияния ислама на юге Сахары – следствия подъема радикального фундаментализма в Судане и Иране. Но не следует упускать из вида ни возрастающую аудиторию североамериканских евангельских церквей, пророческих движений, западных и азиатских сект, ни, конечно же, поистине народный, феерический прием каждого путешествия Римского Понтифика. Сегодня, когда внедрение Черной Африки в международную экономическую систему и систему отношений между великими державами постепенно сходит на нет, именно через религиозное посредничество она продолжает оставаться мировым континентом, продолжает связи с остальным миром [22, p. 306].
Конечно, здесь свою роль играют различные дипломатические и геополитические планы и стратегии. В надежде приобрести достойную религиозную роль, как в 70-е годы, и обойти старого соперника, Саудовскую Аравию, Иран неистово играет на струнах ислама. Судан, мечтая разнести эфиопскую крепость, делает то же самое в Африке. Наконец, Израиль предоставил почти карикатурный пример дипломатического использования религии, поощряя раввинов посвящать очень мистического президента Габона Поля Бийя в арканы Кабалы [15].
Однако главное заложено не в этом, а скорее, в народных движениях, идеях и вероисповеданиях, распространенных в Субсахарской Африке и продолжающих вписывать ее в логику «глобализации», несмотря на жалкие экономические достижения. Каким бы не было рвение иранских секретных служб или суданских ваххабитов, нам кажется, что не их деятельность, а ужасающая нищета, хаос и «ночь мира» активизируют исламский радикализм в некоторых странах Черной Африки. Впрочем, безысходность стоит у истоков широкого распространения и североамериканских христианских церквей.
И, наконец, третий вопрос вполне в духе М. Вебера: действительно ли религиозная революция, которую переживает Черная Африка, содержит зародыши переосмысления ее подхода к экономическим проблемам?
Как уже отмечалось, большей части африканских церквей и религиозных движений присуща стратегия накопительства. Роль католических и протестантских миссий в навязывании новых экономических ценностей и в экспансии капиталистического мира на рубеже XIX и XX веков общеизвестна. Создание независимых церквей и поиск материального подъема тоже шли рука об руку. С этой точки зрения логика исламизации сравнима с логикой христианизации, и феномен, похожий на ваххабизм, в Мали полностью подтверждает связь между религиозным новшеством и экономической деятельностью [1]. Проблема не в том, чтобы сформулировать религиозную доктрину в экономической сфере, – критика епископскими конференциями «несправедливости» программ структурной перестройки имеет свои границы, а иллюзия «исламской экономики» приказала долго жить, а в проявлении проблематики «рационализма», в формировании рациональной, действенной этики в веберовском смысле. Именно таким образом необходимо рассматривать, например, новые церкви Мбужимаи в Заире: с одной стороны, это пространство автономии и свободы по отношению к авторитарному режиму; с другой стороны, они выступают, по меньшей мере, некоторые из них, в качестве экономических операторов, контролируя часть отраслей дикой добычи алмазов и импорта товаров потребления, соединяя данную деятельность со строжайшим соблюдением их сектового это-са [17]. Еще более интересно обнаружить, что в родственных общинах утверждается практика размывания родственных связей, что может служить проводником идей рыночной экономики [25]. Впрочем, впечатляющий экономический подъем Ганы под руководством Джерри Рол-лингса произошел в стране, где религиозность носит относительно остаточный характер.
То, что один лишь Бог недостаточен для решения экономических задач, показали замбийцы, проголосовав против набожного К. Каунды в 1991 г. и постепенно стабилизировав при новом руководстве экономическую ситуацию в своей стране. Тем не менее, вопрос весьма актуален: содержит ли многоликая религиозная революция, наблюдаемая в Черной Африке, зерна пересмотра подхода к экономической тематике, исходя, естественно, из факта, что этическая реформа данного порядка не может быть «ничем однородным и простым» и что непосредственным ее следствием, вероятно явится откат в прошлое в виде пересмотра прежних вероисповеданий или прорыв вперед в том, что вскоре будет расценено «цивилизованным миром» как мракобесие? Случай пророка Гбание, изученный французским африканистом К. Перро, является показательным в данном контексте: новый культ навязан селу предприимчивыми людьми, а его идеология – идеология обогащения [22, p. 267]. Но этот пример интересен своими ограничениями: с одной стороны, Гбание, настоящий Савонарола тропиков, добился лишь эфемерного успеха, а с другой, он больше разрушил, чем построил. Вклад религиозного фактора в экономическую модернизацию наверняка замысловат, неоднозначен и совсем необязательно позитивен.
Итак, мы попытались проанализировать взаимозависимость религии и политики на материалах Черной Африки и убедились в многолико-сти связей этих двух самостоятельных явлений. «Если коммунизм растворяется в спиртном», то религия не растворяется в политике и, наоборот. Вера в Бога, его служителей или их сознание не исчезают в политической приверженности, а последняя не является актом веры. Но это не умаляет того, что религиозный фактор вносит вклад в определение исторических условий, при которых происходят политические реформы. Два «режима» – оставляем антропологическую концепцию М. Бакса – определенно поддерживают отношения взаимозависимости, которые серьезно повлияют на будущее Черной Африки. Именно в данном смысле, строго очерченном, политическое пространство может считаться «культовым пространством». Не потому, что его институты, практика или деятели полностью зависят от религиозного поля; не потому, что политическое поле неразличимо по отношению к полю религиозному. Но потому, что религиозная деятель- ность как таковая определяет конфигурацию общественного пространства, например, очерчивая линии общественного согласия или отчуждения, схемы политической самобытности, содержание государственного и экономического рационализма, эстетику образа жизни.
Список литературы Религия, политика и поиски идентичности в постколониальном обществе (на материалах чёрной Африки)
- Amselle, J.-L., 1983. Le wahabisme à Bamako (1945-1983). Table ronde internationale sur «Les agents religieux islamiques en Afrique tropicale». Paris: Maison de sciences de l' homme, 15-17 décembre. (In French) 2.
- Augé, M., 1975. Théorie des pouvoir et idéologie. Etude de cas en Côte-d'Ivoire. Paris: Hermann. (In French) 3.
- Badie, B., Smouts, M.-C., 1992. Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale. Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Dalloz. (In French) 4.
- Bax, M., 1987. Religious regimes and state-formation: toward a research perspective. Anthropological Quarterly, Vol. 60 (1), pp. 1-11. 5.
- Collins, R., 1986. Weberian sociological theory. Cambridge: Cambridge University Press. 6.
- Delumeau, J., Le Goff, J., Christin, O., 1991. Une révolution symbolique. L' iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique. Paris: Ed. de Minuit. (In French) 7.
- De Rosny, E., 1992. L' Afrique des guérisons. Paris: Karthala. (In French) 8.
- Gruénais, M.-E., 1992. L' Etat congolais face à ses prophètes. In: Etat et société dans le tiers-monde. De la modernisation à la démocratisation. Paris: Publications de la Sorbonne, pp. 221-227. (In French) 9.
- Gruénais, M.-E., Mbambi, F.M., Tonda, J., 1995. Messies, fétiches et lutte de pouvoirs entre les "grands hommes" du Congo démocratique. Cahiers d'Etudes Africans, no. 137, pp. 163-193. (In French) 10.
- Hermet, G. et al., 1973. Les organisations catholiques et protestantes comme forces politiques de substitution. Re-vue française de science politique, Vol. XXIII (3), pp. 437-549. (In French) 11.
- Jaffrelot, C., 1993. Les nationalistes hindous. Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. (In French) 12.
- Jewsiewcki, B. еt al., 1995. Du témoignage à l' histoire des victimes au martyrs: La naissance de la démocratie à Kinshasa. Cahiers d' études africaines, no. 137, pp. 209-231. (In French) 13.
- Kabongo-Mbaya, Ph.B., 1992. L'église du Christ au Zaïre: formation et adaptation d' un protestantisme en situation de dictature. Paris: Karthala. (In French)
- Laburthe-Tolra, Р., 1996. La conversion au catholicisme en Afrique noire. Afrique contemporaine, no. 178, pp. 30-39. (In French) 15.
- La Croix, 1986, 7-8 sept. (In French) 16.
- Mbembe, A., 1988. Afrique indociles. Christianisme, pouvoir et Etat en société postcoloniale. Paris: Karthala. (In French) 17.
- Ngandu-Nkashama, P., 1990. Eglises nouvelles et mouvements religieux. L' exemple zaïrois. Paris: L'Harmattan. (In French) 18.
- Pénoukou, E.J., 1984. Eglises d' Afrique. Propositions pour l'avenir. Paris: Karthala. (In French) 19.
- Pye, L.W., 1985. Asian power and politics. The cultural dimensions of authority. Cambridge: The Beknap Press of Harvard University Press, 1985. 21.
- Ranger, T.O., 1986. Religious movements and politics in Sub-saharan Africa. African Studies Review, Vol. 29 (2), pp. 1-69. 22.
- Religion et modernité politique en Afrique noire. Paris: Karthala, 1993. (In French) 23.
- Roy, O., 1992. L' échec de l'islam politique. Paris: Seuil. (In French) 24.
- Troeltsch, E., 1991. Protestantisme et modernité. Paris: Callimard. (In French) 25.
- Warnier, J.-P., 1993. L'esprit d'enterprise au Cameroun. Paris: Karthala. (In French) 26.
- Willame, J.-C., 1992. L' Exportation de la démocratie: enjeux et illusions. In: Démocratie et développement. Mirage ou espoir raisonnable? Paris: Karthala, pp. 43-60. (In French)