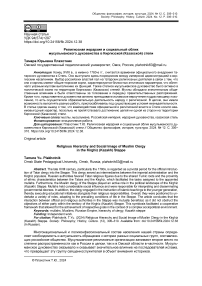Религиозная иерархия и социальный облик мусульманского духовенства в Киргизской (казахской) степи
Автор: Плахотник Тамара Юрьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Конец XVIII в., а именно 1780-е гг., считается временем официального внедрения татарского духовенства в Степь. Оно выступало здесь посредником между имперской администрацией и киргизским населением. Выбор российских властей пал на татарских религиозных деятелей в связи с тем, что они и киргизы имеют общие тюркские корни, характеризуются близостью этнических параметров, что облегчало указным муллам выполнение их функций. Также степное мусульманское духовенство было активно в политической жизни на территории Киргизских (Казахских) степей. Муллы обладали значительным общественным влиянием и были ответственны за толкование и передачу правительственных распоряжений. Кроме того, представители духовенства активно преподавали исламское вероучение подрастающему поколению, то есть осуществляли образовательную деятельность наряду с религиозной. В целом, они имели возможность выполнять разную работу, приспосабливаясь под существующие условия жизнедеятельности. В статье сделан вывод о том, что взаимодействие официальной и религиозной власти в Степи носило взаимовыгодный характер, поскольку не препятствовало достижению целей ни одной из сторон на территории Киргизской (Казахской) степи.
Муллы, мусульмане, российская империя, иерархия духовенства, казахская степь
Короткий адрес: https://sciup.org/149146702
IDR: 149146702 | УДК: 94(574)+297 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.38
Текст научной статьи Религиозная иерархия и социальный облик мусульманского духовенства в Киргизской (казахской) степи
В историографии проблемы выделяются дореволюционный, советский и постсоветский периоды. При анализе первого следует обратить внимание на разнообразие мнений о развитии ислама, положении и значении мусульманского духовенства в развитии колонизационных процессов в Казахской (Киргизской) степи. Среди авторов трудов, посвященных исламу и мусульманскому духовенству, были чиновники, служившие в региональном аппарате управления. Неудивительно, что они политизировали ислам и деятельность мусульманского духовенства, подчеркивали политическую необходимость взаимодействия с ним имперских властей1. Н. Саркин (1907), Н. Балкашин (1886), Я. Коблов2 в своих работах отмечают, что мусульманское духовенство в досоветский период представляло важнейшую группу элиты не только у киргизов (казахов), но и у всех народов Российской империи, исповедовавших ислам. Необходимо отметить также исследования татарского ученого Ш. Марджани, занимавшегося историей возникновения Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС) и его деятельностью3. В сферу его научного интереса вошли личности из числа мусульманского духовенства (например, муфтии, возглавлявшие ОМДС). Таким образом, работы Ш. Марджани можно считать биографическими исследованиями.
В период советской истории продолжались исследования, посвященные мусульманскому духовенству. Особенно активно соответствующие труды издавались в 1920–1930-е гг. и содержали богатый фактический материал. Среди них можно назвать работы Дж. Валиди4, А. Арша-руни, Х. Габидуллина5 и М.Г. Худякова (1922).
В постсоветский период интерес к исламу и мусульманскому духовенству возрос. Так, можно отметить монографию Д.Д. Азаматова «Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XVIII–XIX вв.» (Азаматов, 1999). Вклад этого ученого в отечественное исламоведение несомненен, поскольку история и деятельность ОМДС рассматриваются им в контексте имперской политики России по бюрократизации и регламентации деятельности мусульманского духовенства. Кроме того, Д.Д. Азаматов использует потенциал биографической истории, привлекая неизвестные ранее исторические источники.
Также необходимо упомянуть работы С.М. Прозорова6, в сферу научных интересов которого входили исследования ислама как религиозной системы, распространенной на территории Российской империи. Ученый также является составителем хрестоматии7 и энциклопедического словаря по исламу.
Обязательно следует отметить статью А.Н. Старостина8, в которой репрезентирован социальный облик имамов как одной из групп мусульманского духовенства.
Представители казахстанской исторической науки в основном рассматривают общие вопросы интересующей нас тематики: конфессиональную политику Российской империи, функционирование мусульманских институтов, развитие образования в исламе. Необходимо выделить исследование Г.С. Султангалиевой, которая подробно проанализировала характер политических и этноконфессиональных взаимодействий татарского и казахского населения степных районов на рубеже XVIII–XIX вв. (Султангалиева, 2023). Ей удалось доказать, что процессы отправки мулл к казахской знати, открытие мечетей в указанный период были не только институционально обусловлены, но и не всегда системны. Поэтому, по мнению исследователя, определить степень вовлеченности конкретных религиозных учреждений и мусульманских деятелей в реализацию конфессиональных мероприятий достаточно сложно.
По мере расширения территории Российской империи в восточном направлении все более актуальным вопросом для властей становится поиск средств подчинения местного населения новым политическим и социально-экономическим реалиям. Одним из них было использование влияния мусульманского духовенства на население степных областей. Необходимо отметить, что большую часть его составляли татарские священнослужители. Российские власти знали о присутствии в Киргизской (Казахской) степи большого числа казанских татар, пользовавшихся авторитетом у коренного населения. Интересен взгляд дореволюционного исследователя А.В. Васильева на использование влияния этой социальной группы, в том числе и духовенства, имперскими властями, изложенный им в «Материалах к характеристике взаимных отношений между татарами и киргизами»1.
Можно выделить несколько направлений деятельности имперских властей по отношению к мусульманскому духовенству в Киргизской (Казахской) степи:
-
– организация его выборности;
-
– проверка лояльности священнослужителей российским властям;
-
– контроль за их подготовкой и деятельностью2.
Все они давали возможность сделать мусульманское духовенство в Киргизской степи посредником между имперской властью и местным населением. Этому способствовал также религиозный авторитет разных групп такого духовенства (муфтий, имамов, мулл и пр.), образованность, характерная для, как минимум, верхушки священнослужителей, непосредственное взаимодействие их с казахским социумом. К тому же, часто муллы создавали школы для детей казахов, что делало их наставниками подрастающего поколения. Используя названные ресурсы, имперские власти выстраивали стратегию колонизации Киргизской (Казахской) степи. Таким образом, роль мусульманского духовенства в подчинении империей степных областей переоценить невозможно.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что российские власти сохранили традиционную иерархию мусульманского духовенства, в том числе и в Киргизской степи. Мы предполагаем, что сделано это было по следующим причинам:
-
– отсутствие изменений в структуре обеспечивало лояльность религиозной верхушки;
-
– взаимодействие с низшим, средним и высшим духовенством давало больше возможностей влиять на различные слои казахского социума;
-
– различные группы духовенства традиционно выполняли широкий круг обязанностей, что устраивало имперскую администрацию.
Постепенно российские власти перешли к законодательной регламентации избрания и деятельности мусульманского духовенства. 21 октября 1837 г. вышел указ «О порядке избрания мулл и других духовных чинов к магометанским приходам»3.
Данный документ закрепил традиционный порядок избрания «духовных чинов», регламентировал участие верующих в таких выборах, содержал ограничения для этого. Например, не имели электорального права люди, не принадлежащие к обществу, а также младшие члены семейств (не отделенные от отцов сыновья, меньшие братья, племянники и т. п.).
Результаты выборов передавались для утверждения военному губернатору, который принимал окончательное решение4.
На наш взгляд, данный указ продолжил процесс бюрократизации и государственной регламентации процедуры избрания мусульманских духовных лиц. Начало ему было положено созданием в 1789 г. Оренбургского магометанского духовного собрания, которое являлось государственно-религиозным учреждением.
Социальный облик мусульманских духовных служащих Киргизских (Казахских) степей был однородным, несмотря на сохранение служебной иерархии. Базовыми его характеристиками служили национальность, происхождение и образование. Для изучения социального облика представителей этой социальной группы мы использовали биографии первых трех муфтиев Оренбургского магометанского духовного собрания: Мухамеджана Хусаинова5, Габдесалляма Габдра-химова6 и Габдулвахида Сулейманова7 (табл. 1).
Таблица 1 – Социальный статус оренбургских муфтиев 1
Table 1 – Social Status of Orenburg Muftis
|
Муфтии |
Год рождения |
Место рождения |
Национальность |
|
Мухаммеджан Хусаинов |
1756 |
д. Султанай Уфимской провинции |
Родился в башкирской семье |
|
Габдесаллям Габдрахимов |
1765 |
д. Абдрахманово Бугульминского уезда Самарской губернии |
Родился в татарской семье |
|
Габдулвахид Сулейманов |
1786 |
д. Абсалямова Стерлитамакского уезда Оренбургской губернии2 |
Родился в татарской семье |
На основе полученных данных можно говорить о преобладании в руководстве мусульманами татар. Об этом свидетельствуют и указы 1785 г., содержание которых позволяет сделать вывод о том, что казанские татары для российского правительства казались верными и надежными поданными3. Эти качества были необходимы для внедрения их в Киргизскую (Казахскую) степь в качестве проводников российского влияния и посредников между имперской администрацией и казахским населением степных областей. «Уже в 1789 г. контингент командированных мулл составил более 20 человек. Многие из них должны были войти в органы временного управления казахской степью и в планируемые О.А. Игельстромом расправы (суды) для Младшего жуза» (Шаблей, 2010). Так как в первые годы желающих было немного, российское правительство расширило социальные и этнические критерии для кандидатов (Шаблей, 2010).
Все три первых муфтия получили высшее духовное образование (табл. 2). Муфтии, судя по их образованию, были «доморощенными», то есть они обучались в медресе на территории России. Но были и случаи обучения в зарубежных духовных учебных заведениях, например Бухары и Кабула. Ни у одного из муфтиев не было светского образования, что говорит, во-первых, о целенаправленности получения профессии для религиозного служения, во-вторых, подтверждает тот факт, что тюркская молодежь Российской империи из-за плохого знания русского языка не имела доступа в светские высшие заведения страны.
Таблица 2 – Образование муфтиев (Шаблей, 2010)
Table 2 – Education of Muftis (Shablay, 2010)
|
Муфтии |
Образование |
|
Мухаммеджан Хусаинов |
Высшее духовное образование получил в медресе Сеитовского посада, Оренбурга, Бухары и Кабула |
|
Габдесаллям Габдрахимов |
Высшее духовное образование получил в медресе первого прихода Казани у Ибрагима Худжаши и медресе Каргалы (Сеитовский посад) Оренбургского уезда |
|
Габдулвахид Сулейманов |
Высшее духовное образование получил в медресе Каргалы Оренбургского уезда |
Для того чтобы получить религиозное образование, претендентам было необходимо знать арабский язык. То есть высокий образовательный уровень мусульманских служащих подтверждается владением несколькими языками: как минимум, русским и арабским. Последний, являющийся богослужебным языком ислама, знали все мусульманские служащие. Татарский язык в Киргизской (Казахской) степи использовался в официальных ситуациях наряду с русским языком. «Для производства дел султан имел письмоводителя, знающего русский и татарский языки»4.
Изучение социального происхождения мусульманского духовенства показывает, что религиозное наставничество являлось частью семейной традиции, то есть большая часть священнослужителей имела близких родственников (отцов, дядей, дедушек), тоже посвятивших себя этой профессии (табл. 3). Скорее всего, это связано с тем, что мусульманское духовенство имело большое влияние и уважение в обществе. Относиться к этой социальной группе было престижно. Поэтому неудивительно, что многие стали продолжателями семейной традиции. Можно предположить, что в их представлении это был ключ к благополучной и спокойной жизни.
Таблица 3 – Социальное происхождение 1
Table 3 – Social Origin
|
Муфтии |
Социальное происхождение |
|
Мухаммеджан Хусаинов |
Отец – Хусаин бин Абдуррахман бин Анас аль-Бурундуки – в 1720-х гг. был имамом и мударрисом в д. Стерлибаш Уфимской губернии |
|
Габдесаллям Габдрахимов |
По происхождению из тархан |
|
Габдулвахид Сулейманов |
Отец – ахун Курмышского уезда Симбирской губернии |
Необходимо отметить также, что большая часть духовенства параллельно с работой в мечети занималась преподаванием исламского вероучения, трудилась в должности переводчиков, толмачей, письмоводителей, учителей, купцов. Все это говорит о том, что не всегда работа религиозного деятеля в этой среде была основной. Духовенство было достаточно гибким и имело возможность выполнять разные обязанности. Оно приспосабливалось к существующим условиям жизнедеятельности.
Таким образом, взаимодействие имперских властей и мусульманского духовенства (особенно его верхушки) можно считать компромиссом, позволявшим обеим сторонам реализовывать свои цели на территории Киргизской (Казахской) степи.
Список литературы Религиозная иерархия и социальный облик мусульманского духовенства в Киргизской (казахской) степи
- Азаматов Д.Д. Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XVIII-XIX вв. Уфа, 1999. 194 с.
- Балкашин Н.Н. О киргизах и вообще подвластных России мусульманах. СПб., 1886. 56 с.
- Саркин Н. Татарско-мусульманские предания, касающиеся пророка Давида и Вирсавии // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь, 1907. С. 81-85.
- Султангалиева Г.М. Татарские муллы и письмоводители в Казахской степи (XVIII - первая половина XIX в.). Казань, 2023. 300 с.
- Худяков М.Г. Мусульманская культура в Среднем Поволжье. Казань, 1922. 21 с.
- Шаблей П.С. Социальный облик мусульманских служащих в Казахской степи (конец XVIII - середина XIX в.) // Pax Islamica. 2010. № 2 (5). С. 91-107.