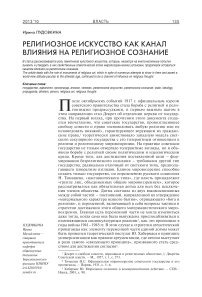Религиозное искусство как канал влияния на религиозное сознание
Автор: Пудовкина Ирина Михайловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 10, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль памятников культового искусства, которые, несмотря на многочисленные попытки выявить и утвердить в них свойственные атеистической эпохе мировоззренческие установки, продолжали оставаться каналом влияния на религиозное сознание.
Государство, идеология, пропаганда, атеизм, человек, религиозное искусство, религиозное сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/170166671
IDR: 170166671
Текст научной статьи Религиозное искусство как канал влияния на религиозное сознание
Для того чтобы атеизм действительно стал условием формирования единого мировоззрения, политика советского государства в отношении религии была направлена на формирование в сознании стереотипов или на прочное укоренение в социальной психологии отношения к однородным или похожим друг на друга явлениям, фактам и т.п.1
Другими словами, целью всей анти -религиозной пропаганды было создание стереотипического образа религии как источника конфликта, средства угнетения, вредного суеверия и заблуждения.
Для достижения этой цели антирелигиозная пропаганда широко использовала так называемый метод подмены стереотипов, или замену ложных стереотипов, связанных с религиозным мировоззрением, на истинные стереотипы, выражающие сущность материалистического мировоззрения. Следовательно, смысл метода подмены стереотипов с позиции социальной психологии заключается в достижении «конверсии через закрепление», или изменении сознания путем переоценки традиционных ценностей2.
Важная роль в антирелигиозной политике государства отводилась культуре, и в частности такой ее сфере, как искусство, в т.ч. и наследие прошлого. Однако сл едует признать, что данная политическая стратегия складывалась постепенно, и Д. Биллингтон подчеркивал неопределенность политики советского государства в отношении культуры, т.к. «долгое время было не вполне ясно, насколько глубоко ломка культурной традиции входила в основу нового социального строя»3. Такую политическую линию в отношении культуры и искусства Л. Троцкий оправдывал невозможностью применения командных методов в этой области вследствие ее специфических особенностей. Но политика нейтралитета по отношению к культуре завершилась четко выработанной стратегической линией, выразителем кото -рой стал А. Луначарский, определивший искусство как «величайшее орудие агитации в борьбе против религии»4, причем этим орудием должно стать и религиозное искусство прошлого. Таким образом, культовое искусство требовалось идеологически переориентировать, теоретически избавить его от религиозной направленности, раскрыть его органичную связь с атеизмом, которая обнаруживает себя по мере развития социального прогресса5. В этой связи стоит вспомнить экзистенциальный подход к религии П. Тиллиха, согласно которому разделить сакральное и профанное в искусстве практически невозможно, т.к. существует единство между религией и культурой, и религия есть субстан -ция культуры, а культура представляет собой форму религии. Признание культуры и религии как объективной реальности стало для Тиллиха аргументацией в пользу постоянства такого социального явления, как вера, вследствие чего любая критика религии, даже средствами культуры, оборачивается только сменой одного типа веры на другой6. Это и обусловило двойственное положение религиозного искусства прошлого в антирелигиозной политике государства. С одной стороны, оно действительно использовалось в качестве иллюстрации в атеистической пропаганде, т.к. было способно воздействовать на личность и формировать в сознании определенные мировоззренческие идеологические установки. С другой стороны, искусство не утрачивает своей сакральной сущности и остается каналом влияния на религиозное сознание. Для того чтобы понять механизм воздействия на сознание религиозного искусства, необходимо обратиться к сформулированным Луначарским подходам к культовому искусству прошлого, где главными критериями были эстетическая значимость и наличие народных традиций и связанных с ними языческих верований. Так, основой для охраны архитектурных памятников была их красота, и Луначарский признавал необходимость уничтожения религии и обязанность «уберечь красоту прошлого»1.
Но еще С. Булгаков считал красоту тем критерием, по которому можно опреде-лить уровень религиозности неверую -щего человека, объясняя свои выводы тем, что во времена упадка религиозной веры повышается именно интерес к эсте -тической стороне жизни, которая и есть проявление «замерших религиозных сил души человека». Именно посредством красоты человек начинает бессознательно воспринимать божественное, буквально «дышать» им, хотя при этом и отрицать его, и тогда искусство становится для него своеобразной средой «религиозного питания»2.
У. Эко, резюмируя теологические под -ходы к пониманию красоты средневеко вых европейских философов и мистиков, сделал вывод, что если художествен -ная теория есть результат деятельности ученых для ученых, то художественная практика обращена ко всем без исклю чения, имеет «дидактическую нагрузку и через наслаждение красотой» трансли рует в сознание «научную и религиозную истину»3. В связи с красотой памятников архитектуры к ним можно применить семиологический подход Эко, который позволяет рассматривать их как средство коммуникативного воздействия на лич ность, особенно согласно его гипотезе о возможном истолковании функций с точки зрения коммуникации. У. Эко доказывает гипотезу с помощью «идеи пещеры», защитная функция которой прочно закрепилась в сознании перво бытного человека, пройдя несколько мыслительных этапов. В результате в сознании «возникает модель и образу ется структура, нечто само по себе не существующее, но позволяющее разли чать в какой то совокупности явлений “пещеру”». Смысл рассуждений У. Эко сводится к тому, что кодифицированная модель продолжает существовать «если не на социальном уровне», то в сознании отдельного индивида и выступать «как сообщение о ее возможном использова нии» независимо от того, используется данный объект по назначению или нет4.
Попытки найти атеистический элемент в религиозном искусстве также законо-мерно способствовали тому, что идея священного не исчезала, но приобретала другое значение, связанное с человече ским началом. Эту эволюцию наглядно иллюстрирует подход к пермской дере вянной скульптуре А. Луначарского, который пытался трактовать ее как форму, позволившую коми пермякам сохранить свои традиционные языческие верования, частично сформировавшиеся под влиянием буддизма. Поэтому в рас -пространенном сюжете сидящего Христа в пермской деревянной скульптуре народ видел парафраз образа «сидящего Будды», которого А. Луначарский харак-теризует как спокойного, отдыхающего бога. Воплощенная в образе Будды идея нирваны трансформировалась в созна нии простого человека, «задавленного трудом и страданием», в «идею успокое ния», вследствие чего этот образ «принят был первобытным пермяком с чувством глубокого удовлетворения»5.
Вслед за А. Луначарским собира-тель пермской деревянной скульптуры Н. Серебренников также утверждал, что за обликом Христа неизвестный народ ный мастер скрыл облик страдающего крестьянина пермяка, что и послужило весомым аргументом для примирения коми пермяков с непонятной и чужой им христианской религией6.
Подобный подход применил к ико нописным памятникам при описании «Троицы» А. Рублева известный совет -ский искусствовед М. Алпатов, видев -ший в ней влияние традиций антич ности, в частности учения Псевдо Дионисия Ареопагита о человеке «как господине своей судьбы», что позво лило исследователю сравнивать настоя щую икону с греческой надгробной пла стикой и статуями Парфенона. Отсюда трактовка образов иконы как теле сных и акцент Алпатова на мастерстве
А. Рублева в передаче «красоты человеческого тела»1.
Взгляды на культовое искусство как оболочку, позволившую зашифровать и сохранить древние верования о чело -веке как божестве, представляют собой парафраз теории Л. Фейербаха о рели -гии как объекте самопознания человека. Фейербах рассматривал исторический прогресс христианской религии в пости жении ее человеческой природы, а само христианство определял как «отношение человека к самому себе»2. Религию во взглядах Фейербаха С. Булгаков опреде-лял как религию «человекобожия» с ее идеей очеловечивания религии, сведения ее с неба на землю и заменой Бога чело веком.
А. Любищев считал, что неудачи атеи- стической пропаганды и политики го сударства в области религии связаны с догматизмом и игнорированием мнения оппонентов, и это чрезмерное усердие в постановке вопроса стимулировало интерес к религии у большей части насе ления страны. Такие усиленные методы пропаганды М. Эпштейн обозначал как гипертрофированные или абсолютизи рованные своеобразные идеологические конструкции, лишенные социальных реалий, а потому вызывавшие неволь ный протест в сознании, итогом кото рого было обращение к религиозным ценностям. Однако необходимо учесть и фактор культуры, непосредственно произведений культового искусства, которые, несмотря на все попытки при способить их под идеологическую про паганду, сохранили мировоззренческие религиозные установки, оставаясь тем самым каналом влияния на религиозное сознание.