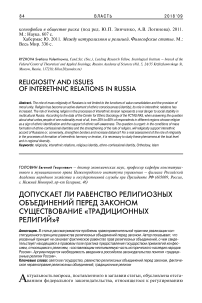Религиозность и вопросы межэтнических отношений в России
Автор: Рыжова Светлана Валентиновна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Религия, общество, государство
Статья в выпуске: 9, 2018 года.
Бесплатный доступ
Роль массовой религиозности россиян не ограничивается функциями ценностной консолидации и обеспечения нравственного единства. Религия стала активным элементом этнической идентичности, усилилась ее роль в межэтнических отношениях. По данным многолетних исследований Центра этнической социологии ФНИСЦ РАН, при ответе на вопрос, что больше всего объединяет их с людьми своей национальности, от 20% до 60% опрошенных в разных регионах выбирают религию как признак этнической идентификации и опору этнического самосознания. Актуален вопрос: в условиях массового формирования этноконфессиональных идентичностей и усиления роли религии будет ли религиозность поддерживать межэтническое согласие россиян или, наоборот, укреплять границы и увеличивать дистанцию? В статье автор рассматривает участие религиозного фактора в современных межэтнических отношениях в России с социологической точки зрения.
Религиозность, межэтнические отношения, религиозная идентичность, этноконфессиональная идентичность, православие, ислам
Короткий адрес: https://sciup.org/170170843
IDR: 170170843 | DOI: 10.31171/vlast.v26i9.6160
Текст научной статьи Религиозность и вопросы межэтнических отношений в России
Актуальность вопроса, поставленного в заглавии статьи, обусловлена отставанием федерального законодательства, относящегося к регулированию государственно-конфессиональных отношений, от запросов правоприменительной практики на расширение правового поля деятельности религиозных организаций в их сотрудничестве с государством в сферах социального и духовно-нравственного развития общества. Состояние этой практики характеризуется рядом противоречивых особенностей, напрямую вытекающих из правовой неопределенности ключевого термина «светское государство», каковым Российская Федерация признается в ч. 1 ст. 14 Конституции РФ, а также корреспондирующей с ним конституционной нормой о равенстве религиозных объединений перед законом (там же, ч. 2 ст. 14). Вслед за Конституцией РФ профильный федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» в п. 1 ст. 4 лишь воспроизводит соответствующие конституционные положения, не определяя при этом юридически значимые сущностные признаки и характеристики понятия «светское государство» (в котором не определены оба слова) и принципа равенства религиозных объединений перед законом; не выявлен конституционно-правовой смысл рассматриваемых положений и в решениях Конституционного суда РФ.
Ситуация, в которой и законодатель, и субъекты применения права в течение десятилетий используют множество терминов, относящихся к религиозной сфере, которые так и не трансформируются в соответствующие понятия, становится объяснимой. Невозможно средствами юридической науки придать правовую интерпретацию духовно-нравственной составляющей (включающей мировоззренческие, эзотерические, магические и пр. аспекты) таких ключевых понятий, терминологически используемых в нормативных правовых актах, как «свобода совести», «свобода вероисповедания», «умаление или ущемление прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания», «религиозное чувство» и т.п., имеющих базовое методологическое значение для характеристики второго ряда понятий: «светское государство», «светскость», «принципы светского государства», «секта», «псевдорелигиозная организация», «равенство религиозных объединений перед законом» и т.д., и в т.ч. понятия «традиционные религии» (либо «традиционные конфессии», «традиционные объединения») России. Религиоведческая наука разрабатывает соответствующие понятия, однако они не могут быть использованы в правоприменительной практике. Не случайно Государственная дума при рассмотрении законопроектов, в частности содержавших термин «традиционные религии России», либо ограничивалась выражением «уважения» к религиям, потенциально относящимся к традиционным (христианство, ислам, буддизм, иудаизм и др.)1, либо отклоняла их как «не отвечающие требованиям современной юридической и религиоведческой науки».
Не случайно также среди ученых, специалистов и представителей конфессий сложился широкий разброс мнений по двум направлениям: как по содержанию принципа юридического равенства религиозных объединений перед законом, так и по оценке деятельности органов публичной власти в сфере государственноконфессиональных отношений в контексте реализации данного принципа.
Что касается полемики вокруг содержания самого принципа равенства религиозных объединений перед законом, то ее участники, как правило, руководствуются двумя разнонаправленными мотивами: с одной стороны, признается, что исторически сложившийся менталитет российского общества негативно воспринимает обеспечение прав национальных, религиозных и иных меньшинств в ущерб традиционным ценностям, защищаемым большинством населения. С другой стороны, утверждается, что Конституция РФ гарантирует права и свободы человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, предполагающие свободу создания религиозных объединений и свободу их деятельности на основе принципа юридического равенства, и что возможные ограничения этих прав и свобод со стороны государства допускаются лишь в случаях, предусмотренных законом, когда они являются оправданными и соразмерными конституционно значимым целям. Тем не менее в этом диспуте достигнут определенный консенсус: по большей части признается, что равенство религиозных объединений перед законом означает единые условия признания религиозной организации в качестве юридического лица с соответствующей этому статусу правосубъектностью; единые основания и порядок учреждения, создания и государственной регистрации религиозной организации; равные права, обязанности и условия ее деятельности (это гарантированный законом объем правомочий, позволяющий религиозным организациям как добровольным объединениям граждан в полной мере осуществлять совместное исповедание и распространение веры); равную ответственность за нарушение законодательства; право на одинаковую защиту законом независимо от их религиозной принадлежности.
Однако вне зависимости от рамок установленного законодателем правового поля религиозные организации отличаются друг от друга множеством объективных характеристик, непосредственно влияющих на фактический объем и содержание реализуемых ими прав: так, они различаются числом последователей, содержанием вероучения и духовной практикой, имущественным положением, степенью укорененности в российском обществе, разным объемом выполняемых функций социального служения, спектром религиозных предпочтений населения и, как следствие, разной степенью сотрудничества со светским государством, которое вынуждено и вправе по-разному взаимодействовать с различными религиозными организациями. И вместе с тем характер различий между ними делает невозможным повышение фактической роли религиозных организаций в жизнедеятельно -сти общества лишь за счет мер поддержки со стороны государства. Именно в сфере сотрудничества государства с конфессиями со всей очевидностью подтверждается аксиоматическое положение: юридическое равенство перед законом не означает фактического равенства прав религиозных объединений, недостижимого в принципе.
В данном случае о консенсусе можно говорить, если оставить за скобками два нюанса, «обременяющие» дискуссии: с одной стороны, это тенденциозные попытки определенной части атеистически либо «светски» мотивированной политической, культурной и научной элиты всячески ограничить влияние Русской православной церкви в обществе, и прежде всего в таких чувствительных сферах, как забота о сохранении нравственности в обществе; духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание; восстановление и развитие исторического и культурного наследия; экономическая деятельность на пользу государства, общества и Церкви. С другой стороны, допускается и обыденное толкование законодательства наподобие следующего: «В Конституции очень много хороших положений, но это не означает, что так оно и есть в жизни. В этой же 14-й статье говорится не только о светском государстве, но и как раз о том, что представители всех религий равны между собой, что нет там первого и второго сорта»1.
Что касается дискуссий, относящихся к реализации на практике принципа юридического равенства религиозных объединений, то остро обсуждаемыми и принципиально важными остаются вопросы: допускает ли равенство религиозных объединений перед законом существование «традиционных религий» и связанную с этим легитимную возможность светского государства оказывать им предпочтительную финансовую, материальную и иную помощь? Не выходит ли взаимодействие государства с ведущими конфессиями за рамки существующего правового поля? В обстоятельном исследовании К. Каневского «Социальное партнерство государства и религиозных объединений: проблемы правового регулирования» отмечается, что «с середины 1990-х годов в России РПЦ и некоторые иные крупнейшие религиозные объединения приобрели привилегированный статус. В последнее время он в ряде случаев закрепляется в подзаконных нормативных правовых актах, которые устанавливают льготы для избранных религиозных организаций (предоставление руководителям религиозных объединений права устанавливать на служебные машины особые номерные знаки, использовать залы аэропортов для официальных делегаций и т.п.). Отмечая позитивный вклад религиозных объединений в развитие российского государства и общества, мы не можем игнорировать негативные аспекты религиозного возрождения в России. Сложившиеся к настоящему времени государственно-конфессиональные отношения привели к клерикализации государства и общества, размыванию принципа светского государства, нарушениям права граждан на свободу совести. Одним из основных принципов регулирования государственно-конфессиональных отношений в России является разделение религиозных объединений на “традиционные” и “иные”, хотя юридически такая классификация в российском законодательстве не установлена» [Каневский 2005].
Действительно, конфессии, относящиеся к религиям, «составляющим неотъемлемую часть исторического наследия народов России», имеют фактическое преимущество перед другими конфессиями в том, что они, располагая соответствующими возможностями и потенциалом и не ущемляя чьих бы то ни было прав и законных интересов, в своих руководящих документах возложили на себя в той или иной мере масштабные попечения, относящиеся к социальному служению в общественных и государственных делах. К примеру, в Социальной концепции Русской православной церкви заявлено соработ-ничество с государством в 16 областях, означающее для Церкви «призвание в нынешний исторический период... принимать участие в устроении человеческой жизни во всех областях, где это возможно, и объединять соответствующие усилия с представителями светской власти»1. И светское государство, уважая внутренние вероучительные установления религиозных организаций, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, оказывает им необходимую поддержку, в т.ч. дополнительно расширяя их правосубъектность и руководствуясь при этом формулой: «государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях, созданных рели- гиозными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании»1.
В палитре доктринальных возражений против складывающейся практики реализации принципа равенства религиозных объединений перед законом все чаще задаются и другие вопросы: почему в стране фактически существуют «государственная церковь», несколько «привилегированных» конфессий и «религиозные аутсайдеры»? Почему растет клерикализация общественной жизни и игнорируются чувства «инаковерующих» и просто неверующих2? Наконец, почему нарушаются принципы светского государства3? Генеральный директор ВЦИОМа В. Федоров в интервью «Российской газете» заявил: «Никто не покушается на первенствующее место РПЦ среди всех традиционных конфессий, но… если будет предпринята попытка интегрировать элементы православия в государственную практику, то мы встанем на очень опасный путь, ведущий к распаду России»4. Подобные утверждения никогда не опираются на официальную позицию Церкви по этим вопросам, ибо православная церковь вовсе не призывает к изменению конституционной нормы о том, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Она «не стремится к статусу государственной, – подчеркнул святейший патриарх Кирилл в интервью греческой газете «Вима» 24 мая 2010 г. – Церковь отделена от государства, и мы не собираемся этого менять. Однако Церковь, будучи отделена от государства, не отделена от общества. Церковь не может снять с себя ответственность за духовное состояние нации, в том числе ее руководящих слоев. Мы не можем и не должны выискивать какие-то скрытые мотивы за обращением людей к Церкви, будь то политики, рабочие, профессора или домохозяйки».
Более аргументированной представляется позиция тех ученых и специалистов, которые полагают, что попытки навязывания мысли о равенстве и тождестве религий или равенстве религиозных объединений между собой являются необоснованными ни с правовой, ни с религиоведческой точек зрения; принцип юридического равенства не противоречит установлению предпочтений и преференций [Ходыкин]; государство не может игнорировать фактическое неравенство конфессий, с учетом которого абстрактная «нейтральность» и «равноудаленность» от всех конфессий обернулась бы социальной несправедливостью [Шахов 2013: 135]. В этой позиции не только присутствует правовая логика, она адекватно корреспондирует и с опытом зарубежных стран. К примеру, в европейских многоконфессиональных странах с государственной религией (Англия, Швеция, Финляндия, Греция и др.), тем не менее, все религиозные объединения, независимо от статуса, равны перед законом. В странах, где отсутствует государственный статус религий (Германия, Италия, Австрия и Япония), тем не менее, одна из религий обладает некоторыми привилегиями, имеет предпочтительный статус [Ходыкин]; в 45% всех стран конституции или заменяющие их законы признают особый статус одной или нескольких религий, и такое признание не ведет автоматически к ущемлению прав человека и свобод религиозных сообществ [Еленский 2011].
А что же в Российской Федерации? Несомненно, Русская православная церковь сохраняет и приумножает первенствующее положение среди всех религий в России, и, как утверждается в постановлении Конституционного суда РФ от 15 декабря 2004 г. № 18-П в пункте 4.1, «православие в России является ведущим вероучением» и «господствующим направлением христианства». «У нас есть полная свобода религиозной деятельности, – заявил В.В. Путин на встрече с лидерами традиционных религиозных общин России 8 февраля 2012 г. – Это касается и такой государствообразующей религии, как православие, православное христианство. Это касается ислама, это касается буддизма, это касается иудаизма, эта свобода распространяется на всех. В современных условиях светскость государства должна заключаться в том, что между государством и религиозными организациями должен установиться совершенно другой режим взаимоотношений – режим партнерства, взаимной помощи и поддержки. Мы должны наладить многостороннюю, глубокую, многовекторную и долгосрочную совместную работу»1.
В этом контексте следует рассматривать разрабатываемые и обсуждаемые на дискуссионных площадках Государственной думы предложения о дополнении законодательства нормами, классифицирующими религиозные организации как «традиционные» и «нетрадиционные», либо о наделении православия статусом «общенациональной религии России» как элемента формируемого гражданского общества, не встраиваемого в систему государственного механизма. Эти предложения исходят из понимания того, что конституционный принцип равенства религиозных объединений перед законом (несмотря на отсутствие его официального толкования) не препятствует конкретизации в законодательстве «особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».
На наш взгляд, состояние и развитие практики реализации принципа юридического равенства религиозных объединений перед законом позволяют сделать вывод, что эта практика, не нарушая самого принципа, уже выходит за пределы существующего правового поля государственно-конфессиональных отношений, которое становится для нее «тесным», и Русская православная церковь, как, впрочем, и другие конфессии России, де-факто являющиеся традиционными конфессиями, объективно нуждаются в правовой легитимации своего статуса со стороны федерального, а возможно, и регионального законодателя. Это позволило бы оптимизировать государственно-конфессиональные отношения, сняв определенную часть конфликтов и противоречий в этой сфере.
Что касается критериев выделения «традиционных» и «нетрадиционных» религий, то в экспертном сообществе аргументируется ряд положений. Так, А.В. Пчелинцев к числу таких критериев относит: а) историю возникновения религии; б) укорененность религии на конкретной территории и ее вклад в духовное и культурное развитие народа; в) поддержку данной религии значительной частью населения2. При разработке понятийного аппарата может быть использовано и рекомендуемое И.А. Куницыным понятие «традиционные конфессии», к которым могут быть отнесены «конфессии, внесшие существенный исторический вклад в создание и развитие государственности и культуры России, способствовавшие формированию и сохранению национально-куль- турной идентичности и самобытности народов Российской Федерации, имеющие широкую общественную поддержку, финансируемые за счет источников, находящихся на территории Российской Федерации, и признанные традиционными в соответствии с законодательством Российской Федерации»1.
Список литературы Религиозность и вопросы межэтнических отношений в России
- Авксентьев В.А., Шульга М.М. 2014. Этноконфессиональные отношения в Ставропольском крае: опыт конфликтологического анализа. - Конфликтология. Т. 3. С. 148-162
- Инглхарт Р., Вельцель К. 2011. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство. 464 с
- Кублицкая Е.А. 2013. Специфика межэтнического и этноконфессионального взаимодействия в регионах РФ (социологический мониторинг). - Социология религии в обществе позднего модерна (Памяти Е.Ю. Синелиной): материалы III Международной научной конференции. Белгород: ИД «Белгород». С. 249-264
- Религия в самосознании народа (Религиозный фактор в идентификационных процессах) (отв. ред. М.П. Мчедлов). 2008. М.: Институт социологии РАН. 145 с
- Толерантность как фактор противодействия ксенофобии: управление рисками ксенофобии в обществе риска (под ред. Ю.П. Зинченко, А.В. Логинова). 2011. М.: Наука. 607 с
- Хабермас Ю. 2011. Между натурализмом и религией. Философские статьи. М.: Весь Мир. 336 с