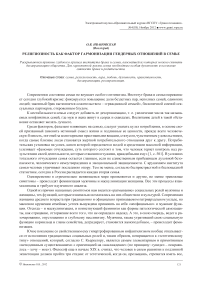Религиозность как фактор гармонизации гендерных отношений в семье
Автор: Ивановская Ольга Викторовна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
Раскрываются причины глубокого кризиса института брака и семьи, важнейшей из которых можно считать десакрализацию общества. Для гармоничной жизни семьи необходимы особая духовность и осознание святости брака и родительства.
Семья, религиозность, вера, любовь, духовность, нравственность, десакрализация, ресакрализация
Короткий адрес: https://sciup.org/14821770
IDR: 14821770
Текст научной статьи Религиозность как фактор гармонизации гендерных отношений в семье
Современное состояние семьи не внушает особого оптимизма. Институт брака и семьи переживает сегодня глубокий кризис: фиксируется повышение доли бездетных пар, неполных семей, одиноких людей; законный брак вытесняется сожительством – «гражданской семьей», бесконечной сменой сексуальных партнеров, откровенным блудом.
К нестабильности семьи следует добавить ее дезорганизацию, т. е. увеличение числа так называемых конфликтных семей, где муж и жена живут в ссорах и скандалах. Воспитание детей в такой обстановке оставляет желать лучшего.
Среди факторов, фатально влияющих на семью, следует указать культ потребления, в основе своей призванный заменить истинный смысл жизни и подлинные ее ценности, прежде всего человеческую близость, погоней за иллюзорными престижными вещами, статусом, чувственным удовольствием, когда самые близкие люди становятся жертвой потребительского отношения друг к другу. Потребительская установка на успех, канон которой определяется модой и средствами массовой информации, усиливает «феномен отчуждения, суть которого состоит в том, что человек теряет контроль над результатами своей деятельности, которые становятся чужими, враждебными ему» [1, с. 501]. В условиях тотального отчуждения семья остается главным, если не единственным прибежищем духовной безопасности, человеческого самоутверждения и эмоциональной защищенности. С крушением института семьи человек утрачивает последнюю опору. Тем не менее, согласно беспристрастной и беспощадной статистике, сегодня в России распадается каждая вторая семья.
Одновременно в стремительно меняющемся мире проявляются и другие, не менее тревожные симптомы – происходят феминизация мужчины и маскулинизация женщины. Все эти процессы взаимосвязаны и требуют вдумчивого анализа.
Одной из причин названных симптомов нам видится «размывание» социальных ролей мужчины и женщины, тех функций, которые изначально возлагались на них обществом и культурой. Современная женщина среднего возраста при традиционно и официально признаваемом патриархальном укладе, но массовом крушении семейных устоев вынуждена принимать на себя «неофициально» и мужские функции. Отсюда – и маскулинизация, и воинствующий феминизм как формы патологической самозащиты, как отрицание, отторжение всего того, что не оправдало надежд. А это, в свою очередь, ведет к разочарованию, опустошению и глубокому пессимизму. Мужчина, также утративший свою социальную функцию кормильца и главы семейства, деградирует, становится женоподобным, – происходит феминизация.
Юное поколение со свойственным ему гипертрофированным инфантилизмом вообще отказывается от исполнения традиционных социальных ролей и, таким образом, возвращается к «эстетическому типу» отношений, который, согласно С. Кьеркегору, является самым элементарным и примитивным «неподлинным существованием» с ориентацией на «наслаждение» (по принципу: «увидел – понравилось – хочу – мое»). Философ еще в начале ХIХ в. считал, что человек в своем развитии к подлинной экзистенции должен пройти три стадии: от эстетической, когда он, прельщаясь, стремится иметь все, что считает своим; через этическую, где «хочу» замещается понятием нормы и долга («надо»); к религиозной, жертвенной стадии, когда человек самоотверженно служит не своим интересам, а Другому.
Следовательно, альфа и омега прочного брака и подлинной близости, человеческой, возвышающей, одухотворенной, дающей подлинную радость, – взаимная любовь. «Как рождается это чувство – тайна, как реализуется – таинство. Здесь нет стандартов, здесь бессильна наука. <…> Но способность к этому чувству может быть привита, воспитана. Умению реализовать его полноценно, в соответствии с природой человека можно научить. И наконец, окружающие социальные условия могут способствовать гармоническому развитию этих человеческих потенций, а могут извратить их, превратить их в нечто чуждое» [1, с. 514].
Для гармоничной жизни семьи необходимы особая духовность и осознание святости брака и родительства. «Если любовь – способность зрелого, созидательного характера, то отсюда следует, что развитие самой способности любить у индивида, живущего в какой-либо определенной культуре, зависит от влияния этой культуры на личность обычного человека. Имея в виду современное общество, спросим себя: благоприятствует ли развитию любви социальная структура западной цивилизации и соответствующий этой структуре уровень духовности? Если так поставить вопрос, то придется ответить на него отрицательно. Объективные наблюдения за нашей жизнью не вызывают сомнения, что подлинная любовь – братская, материнская и эротическая – относительно редкое явление, ее место занято некими эрзацами, многочисленными формами псевдолюбви», – отмечал Э. Фромм [16].
Фромм, как и Гегель, писал о любви как о преодолении человеческой отдельности, осуществлении стремления к единению: «Глубочайшая потребность человека есть <…> потребность преодолеть отдельность, бежать из тюрьмы одиночества. <…> Люди – во все века и во всех культурах – вынуждены решать один и тот же вопрос: как преодолеть отдельность, как достигнуть единения, как транс-цендировать собственную индивидуальную жизнь и прийти к равновесию. <…> В противоположность симбиозу, зрелая любовь есть единение, в котором сохраняются целостность, индивидуальность. Любовь является активной человеческой силой; она разрушает стены, что отделяют человека от его ближних, объединяет людей, заставляет преодолеть чувство изоляции и отдельности и при этом позволяет человеку остаться собой, сохранить свою целостность. <…> Любовь есть активность, а не пассивный аффект; она есть “быть в”, а не “подпадать под”. В самом общем виде об активном характере любви можно сказать, что она есть главным образом отдавание, а не получение. Что же такое отдавание? Ответ, сколь бы простым он ни казался, в действительности полон неясностей и сложностей. Самая распространенная ошибка состоит в том, что отдавание считают “отказом” от чего-то, лишением, жертвой. Именно так воспринимает отдавание личность, характер которой не перерос стадии ориентации на получение, эксплуатацию или накопительство. Таких людей отличает желание отдавать только в обмен; отдавать же безвозмездно – значит, по их мнению, быть обманутыми. Люди, не ориентированные на продуктивность, рассматривают отдавание как обеднение. Поэтому в большинстве своем такие индивиды отказываются отдавать. Некоторые делают благо из отдавания в смысле жертвы. Они чувст- вуют, что должны отдавать именно потому, что это причиняет боль, и видят благо в самом акте жертвоприношения. Норма, что лучше отдать, чем получить, означает для них, что лучше страдать, чем радоваться. Для человека с продуктивной ориентацией отдавание означает совсем другое. Отдавание есть высочайшее выражение потенции. В нем я ощущаю свою силу, здоровье, мощь. Этот опыт повышенной витальности и потенции наполняет меня ликованием. Я ощущаю себя переполненным, щедрым, живым, а значит – радостным. Отдавание доставляет больше радости, чем получение, не потому, что отдавание есть лишение, но потому, что оно выражает мою жизненность. <…> Не тот богат, кто много имеет, но тот, кто много отдает. Едва ли нужно подчеркивать, что способность любить, то есть отдавать, зависит от уровня развития человека. Она предполагает доминирование созидательной ориентации, при которой человек преодолевает зависимость, нарциссическое всемогущество, желание эксплуатировать других, стремление к накопительству, и обретает веру в собственные силы и мужество рассчитывать на себя при достижении цели. В той мере, в какой человек лишен этих качеств, он боится отдавать себя – а значит, любить» [17, с. 366–383].
Еще более категорично о любви как основе человеческой личности высказывался П.А. Флоренский: «Истинная любовь есть выход из эмпирического и переход в новую действительность. <…> Мы говорим “любовь”. Но, спрашивается, в чем же конкретно выражается эта духовная любовь? – В преодолении границ самости, в выхождении из себя, – для чего нужно духовное общение друг с другом. <…> Но слово “любовь” <…> разумеется не в смысле субъективно-психологическом, а в смысле объективно-метафизическом. <…> Метафизическая природа любви – в сверхлогическом преоборении голого самотождества «Я=Я» и выхождении из себя; а это происходит при истечении на другого, при влиянии в другого силы Божией, расторгающей узы человеческой конечной самости. В силу этого вы-хождения Я делается в другом, в не-Я этим не-Я, делается едино- сущным брату, – едино -сущным, а не только подобно -сущным, каковое подобно-сущее и составляет морализм, т. е. тщетную внутреннебезумную попытку человеческой, внебожественной любви. Подымаясь над логическим, бессодержательно-пустым законом тождества и отождествляясь с любимым братом, Я тем самым свободно делает себя не-Я или, выражаясь языком священных песнопений, “опустошает” себя, “истощает”, “обхи-щает”; “уничижает”, т. е. лишает себя необходимо-данных и присущих ему атрибутов и естественных законов внутренней деятельности по закону онтологического эгоизма или тождества; ради нормы чужого бытия Я выходит из своего рубежа, из нормы своего бытия и добровольно подчиняется новому образу, чтобы тем включить свое Я в Я другого существа, являющегося для него не-Я. Таким образом, безличное не-Я делается лицом, другим Я, т.е. Ты. Но в этом-то “обнищании” или “истощании” Я, в этом “опустошении” <…> себя происходит обратное восстановление Я в свойственной ему норме бытия, причем эта его норма является уже не просто данною, но и оправданною, т. е. не просто наличною в данном месте или моменте, но имеющею вселенское и вечное значение. В другом , через уничижение свое, образ бытия моего находит свое “искупление” из-под власти греховного самоутверждения, освобождается от греха обособленного существования, о котором гласили греческие мыслители, и <…> как искупленный, “прославляется”, т. е. утверждается в своей нетленной ценности. Напротив, без уничижения Я владело бы нормою своею лишь в потенции, но не в акте. Любовь и есть “да”, говоримое Я самому себе; ненависть же – это “нет” себе. <…> Любовь сочетает ценность с данностью, вносит в ускользающую данность долженствование, долг; а долг ведь и есть то, что дает данности долготу. <…> Эта любовь единит два мира: ”в том и великое, что тут тайна, – что мимоидущий лик земной и вечная Истина соприкоснулись тут вместе” (Ф.М.Достоевский). <…> Подымаясь над границами своей природы, Я выходит из временно-пространственной ограниченности и входит в Вечность» [15, с. 90–95].
То, что современные молодые люди останавливаются в своем развитии на первом – примитивном «эстетическом», по Кьеркегору, этапе духовного взросления, является одним из свидетельств наступления эпохи «неоархаики», новопервобытности. Действительно, мы вновь вернулись к промискуитету (нечем не ограниченным отношениям между полами) и конкубинату (свободе добрачных отношений), «царившим» в отношениях между полами в доисторические времена.
Мир стремительно утрачивает способность к искренней, всепоглощающей любви, и все чаще она заменяется жестким, «животным» понятием «секс». Однако еще Платон, выражая древнегреческое представление о любви, описал четыре вида сердечной привязанности (гендерных отношений):
– эрос – сексуальная страсть, половое безумие;
– филия – более мягкое влечение, дружба, приязнь, в том числе любовь к работе, к Родине (причем эрос – только ее разновидность);
– сторге – семейная, родственная нежность, любовь-привязанность к родителям, к детям, понимание, любовь-опека, покровительство, обожание;
– агапэ – совершенная, жертвенная, самоотверженная любовь к ближнему.
Именно последняя позднее стала отождествляться с христианской любовью. У Эмпедокла агапэ – это космическая сила притяжения, противоположная силе вражды. Грозно и категорично звучит предупреждение древних греков, которые считали, что человек, познавший эрос до агапэ, навсегда лишается богами способности по-настоящему любить.
Так почему же мы спокойно наблюдаем за тем, как институт брака и семьи утрачивает свою актуальность в нашем обществе? В связи с чем это происходит, и кому это выгодно? Ведь история брачносемейных отношений свидетельствует об их эволюции от промискуитета через групповой брак к моногамной семье, на которой держится вся современная культура.
Такое разрушение социальных связей «на руку» «индивидуализированному» обществу потребления, когда «атомизированный» человек безоглядно стремится к удовлетворению исключительно собственных, все возрастающих потребностей. При этом, «чем более самостоятельными являются респонденты, тем ниже у них репродуктивные ориентации, а также они менее ориентированы на материнство и отцовство <…> семья воспринимается как потеря личной свободы, тормоз для индивидуальных успехов» [14, с. 240]. Социологические исследования сегодня констатируют парадоксальную тенденцию в динамике отношения молодого поколения к семейным ценностям – наблюдается смещение приоритетов от дву- и однодетных семей к полной бездетности.
В этом случае мы попадаем в замкнутый круг: «… снижение рождаемости приводит к старению населения, которое может привести к повышению пенсионного возраста, что влечет за собой еще большее падение рождаемости» [13, с. 179], поскольку работающие бабушки и дедушки не смогут принимать участие в воспитании своих внуков. Следовательно, разрушение института семьи влечет за собой и более катастрофические последствия – депопуляцию, которая угрожает будущему всей нации.
Фактор, вызвавший к жизни целый ряд вышеозначенных проблем, на наш взгляд, – массовая десакрализация общества. Этот термин весьма удачно ввел А. Маслоу для описания современной социальной реальности: «Молодые люди <…> вообще недоверчиво относятся к любым ценностям и добродетелям <…> Молодежь научилась признавать в человеке лишь физический объект, и не хочет видеть, каким бы он мог быть, отказывается воспринимать его с точки зрения символических ценностей и с точки зрения вечности» [12, с. 98–99].
Сегодня необходима ресакрализация как готовность снова посмотреть на человека с позиций христианского целостного восприятия, т.е. вновь научиться видеть святое, вечное, символическое, чтобы преодолеть центробежные силы, раздирающие общество и разрушающие не только брак и семью как важнейшую ячейку здорового социума, но и любые искренние взаимоотношения.
Религия является важнейшим фактором конструирования социальной реальности. Именно она и составляет внутреннюю основу человеческого всеединства. «Когда люди теряют духовные ориентиры, порывают с вечными ценностями, общество и культура оказываются в кризисе. Выход из создавшейся ситуации – в нравственном возрождении людей, которое всегда совершалось на духовной, в том числе религиозной, основе» [10, с. 64].
Обратимся к наследию русской религиозной философии. О глубокой, сущностной, духовной связи религиозности семьи с судьбой народа писали И.А. Ильин и Н.А. Бердяев.
«Религиозность не есть нечто частичное, но целостное. Она имеет удивительную способность – внутренно объединять человека, придавать ему духовную цельность или “тотальность”», – заметил И.А. Ильин в работе «Путь к очевидности» [9, с. 398]. Иными словами, религиозность и есть внутренняя, душевно-духовная тотальность. «Религиозность есть жизнь, целостная жизнь, и притом творческая, жизнь». А человек – это духовно-тотальное существо, и «внутреннее воссоединение, которое он переживает, состоит в том, что в его собственных пределах возникает новый, властный центр (духовная центрированность) » (Там же, с. 400).
В другой своей работе «Путь духовного обновления» И.А. Ильин определил семью как «первый, естественный и в то же время священный союз, в который человек вступает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на любви, на вере и на свободе; – научиться в нем первым совестным движениям сердца; – и подняться от него к дальнейшим формам человеческого духовного единения – родине и государству. Семья начинается с брака и в нем завязывается» [8, с. 199]. Отметим, что, по утверждению современных психологов, отношение к матери во взрослом состоянии определяет отношение человека к своей семье, а детское отношение к отцу определяет его отношение к обществу, к государству (Отечеству) [7, с. 94] . Не трудно представить, какое отношение к браку и к Отечеству закладывается у ребенка, лишенного теплых семейных уз.
Бывают эпохи, писал Ильин, когда небрежность, беспомощность, безответственность родителей начинают возрастать от поколения к поколению. «Это как раз те эпохи, когда духовное начало начинает колебаться в душах, слабеть и как бы исчезать; это эпохи распространяющегося и крепнущего безбожия и приверженности к материальному, эпохи бессовестности, бесчестия, карьеризма и цинизма. В такие эпохи священное естество семьи не находит себе больше признания и почета в человеческих сердцах; им не дорожат, его не берегут, его не строят. Тогда в отношениях между родителями и детьми возникает некая “пропасть”, которая, по-видимому, увеличивается от поколения к поколению» [8, с. 201].
Действительно, сейчас часто звучит следующий тезис: многие наши проблемы связаны с тем, что два последних поколения перестали «слышать» друг друга, между ними – пропасть. История знает много примеров духовного кризиса. В свое время Конфуций, когда над китайской цивилизацией нависла такая опасность, сумел преодолеть полосу «абсолютной отчужденности» между поколениями с помощью понятия сыновней почтительности – сяо. Семья для него была малым государством, а государство – большой семьей, поэтому все социальные отношения были строго иерархизированы в его учении о пяти связях: «Отношения между правителями и подданными, отцом и сыном, мужем и женой, старшими и младшими братьями, между друзьями – эти пять и есть отношения, существующие повсюду в Поднебесной» [5, с. 129]. Идеал у Конфуция находит выражение во всеобъемлющей добродетели – сыновней преданности. Здесь нет никакой пропасти между поколениями. Отметим, что Конфуцию, гениально определившему «главную болевую точку» общества – кризис семьи – удалось решить проблему депопуляции раз и навсегда.
Принципы построения семьи и общественной жизни занимают центральное место и в Законе, данном Моисею, и в исламском Шариате, регламентируя отношения в традиционно религиозном социуме и по вертикали, и по горизонтали. Можно рассматривать семью как имеющую две оси: вертикальную, идущую через поколения, от дедов к отцам и детям, когда каждый человек, выполняя определенную функцию в ряду поколений, проникает за пределы собственного рождения и собственной смерти, становясь «наследником умершего предка и предком будущего потомка» [11, с. 24], и горизонтальную, объединяющую членов одного поколения. Кроме того, вертикальная ось, признавая Бога в качестве праотца, устанавливает связь между семьей и Высшей Реальностью. Таким образом, счастье и гармония в семье прямо связаны с добронравием, искренностью и на- божностью входящих в нее людей, и в первую очередь родителей. Следовательно, семейные ценности, связывая предшествующие и будущие поколения, играют особую роль в жизни человека и страны.
«Семья распадается совсем не от ускорения исторического темпа, но вследствие переживаемого человечеством духовного кризиса. Этот кризис подрывает семью и ее духовное единение, он лишает ее главного, того единственного, что может сплотить ее, спаять и превратить в некое прочное и достойное единство, – а именно чувства взаимной духовной сопринадлежности» [8, с. 201].
История показала и подтвердила это с достаточной наглядностью: великие крушения и исчезновения народов возникают из духовно-религиозных кризисов, которые выражаются прежде всего в разложении семьи. «Раз поколебавшись в семье, духовность начинает слабеть и вырождаться и во всех человеческих отношениях и организациях: “больная клетка создает больные организмы”. Семья оказывается как бы естественною школою христианской любви, школою творческого самопожертвования, социальных чувств и альтруистического образа мыслей <...> Семья призвана воспринимать, поддерживать и передавать из поколения в поколение некую духовно-религиозную, национальную и отечественную традицию. Из этой семейной традиции и благодаря ей возникла вся наша индоевропейская и христианская культура – культура священного очага семьи: с ее благоговейным почитанием предков; с ее идеей священной межи, огораживающей родовые могилы; с ее исторически слагающимися национальными обычаями и нарядами. Это семья создала и выносила культуру национального чувства и патриотической верности. И сама идея “родины”, лона моего рождения, и “отечества”, земного гнезда моих отцов и предков, – возникла из недр семьи, как телесного и духовного единства… Не ясно ли, что истинный гражданин и сын своей родины воспитывается именно в здоровой семье?» [8, с. 205].
Как раз здоровую семью как фундамент социума и разрушает целенаправленно, следуя печально известному принципу «разделяй и властвуй», «индивидуализированное общество», в котором нет места совести и стыду. В такой «серой массе» уже не будет ни гражданина, ни сына своей родины, а будет стадо потерянных беспринципных эгоцентрических индивидов – «атомизирован-ная» масса, которой легко управлять, удовлетворяя самые элементарные низменные ее потребности. Это уже не народ, не самобытная нация. Стаду по большому счету все равно, кто им управляет, само понятие Родины и Отечества утрачивает смысл: «мне хорошо там и с тем, где и кем удовлетворяется моя животная сиюминутная похоть». «И если в современном мире все кишит открытой ложью, обманом, неверностью, интригой, предательством и изменой своей родине, то это несчастье имеет свои корни в двух явлениях : во всеобщем религиозном кризисе и в атмосфере семейной лживости » (Там же, с. 212).
Таким образом, под лозунгами «свободной любви» нам навязывается рабская идеология. По этому поводу Н.А. Бердяев писал: «Прельщение эротическое есть наиболее распространенное прельщение, и рабство у пола есть один из самых глубоких источников рабства человека <...> Нет ничего нелепее споров о свободе любви <…> Отрицать нужно не свободу любви, а рабство любви <…> Иллюзия, которой подвергается человек, заключается в том, что он готов видеть свою свободу в удовлетворении полового влечения в то время, как он находится в состоянии принуждения. Пол есть безличное в человеке, власть общего, родового; личной может быть только любовь <…> Настоящая любовь, всегда бывшая редким цветком, агонизирует и исчезает из мира, мир стал слишком низок для нее <…> Сейчас все стало легким, но и менее напряженным и значительным. Достиглось не глубинное, а поверхностное освобождение. Это парадокс любви в мире, одно из проявлений парадоксальности свободы в мире. Свобода предполагает препятствия и борьбу. Без духовных усилий она легко делается плотской и бессодержательной» [4, с. 134–142].
Следовательно, «духовность несет с собой освобождение, она несет с собой человечность. Возможен прорыв духовности в социальную жизнь, и все лучшее в социальной жизни исходит из этого ис- точника», – писал Н.А. Бердяев в другой своей работе [3, с. 324]. Таким образом, сегодня можно с уверенностью говорить о том, что безрелигиозность является фактором потери культурного своеобразия общества. «Безрелигиозность подрывает основы морального регулирования, так как члены общества не сопрягают знание о добре и зле, хорошем и плохом, должном и нужном с убежденностью, твердостью устоев, воспринимая их в процессе социализации лишь на поверхностно-поведенческом уровне» [2, с. 216].
Религиозность же, напротив, сдерживает разрушение традиционных семейных отношений, т.к. в судьбах и семьи, и отдельных ее членов, и всего социума определяющим становится нравственный фактор – чувство долга, ответственности, истинной духовной свободы и любви, – а не сугубо целерациональные соображения сиюминутной экономической выгоды «индивидуализированного» общества. Важно, чтобы юное поколение привыкало «искать и находить во всем некий высший смысл; чтобы мир не лежал перед ним плоской, двухмерной и скудной пустыней <…> Ибо воистину – мир можно пересоздать, перевоспитать из детской, но в детской же можно его и погубить» [8, с. 209].
Из всего сказанного становится понятной вся важность духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Российское общество должно кардинально пересмотреть роль религиозных ценностей и веры, отказавшись от равнодушно-пренебрежительного к ним отношения. Религия – это традиция, а любая традиция, сохраняя и увековечивая в поколениях полезный опыт народа, закрепляя отточенную временем норму, имеет своей главной целью гарантировать каждому человеку хотя бы минимум счастья. Попирая и игнорируя норму, традицию и веру, мы сами лишаем не только самих себя, но и своих детей духовной уравновешенности и гармонии, а значит, и возможности стать по-настоящему счастливыми людьми.
Следовательно, одним из основных векторов общественного мнения и сутью государственной политики должно стать возрождение традиционной духовности, укрепление родственных связей и отношений между поколениями. Без этого невозможно ни повышение рождаемости даже до уровня простого замещения поколений, ни прекращение депопуляции в России, да и само существование нашей нации во времени оказывается под вопросом.
Список литературы Религиозность как фактор гармонизации гендерных отношений в семье
- Андреева И.С., Гулыга А.В. Брак и семья сегодня//Семья: книга для чтения: в 2 кн. М.: Политиздат, 1991. Кн. 2.
- Астахова Л.С. Религиозное переживание в контексте православной социологии//Социология. 2007. №3/4. С. 216-228.
- Бердяев Н.А. О назначении человека: Опыт парадоксальной этики. М.: Республика, 1993.
- Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии//Его же. Царство Духа и царство Кесаря. М.: Республика, 1995.
- Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. М.: Республика, 1995.
- Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии//Его же. Философия религии: в 2 т./пер. с нем. М.И. Левиной. М.: Мысль, 1977. Т. 2.
- Ивановская О.В. Духовный кризис семьи как один из факторов дестабилизации культуры//Философия социальных коммуникаций. 2011. № 3(16). С. 90-100.
- Ильин И.А. Путь духовного обновления//Путь к очевидности. М.: Республика, 1993.
- Ильин И.А. Путь к очевидности//Путь к очевидности. М.: Республика,1993.
- Любимова А.Б. Роль традиционных семейных ценностей в укреплении семьи//Социология. 2007. №3/4. С. 64-70.
- Пигалев А.И. Культурология: курс лекций. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1995. Кн. 1
- Психосинтез и другие интегративные техники психотерапии/под ред. А.А. Бадхена, В.Е. Кагана. М.: Смысл, 1997.
- Синельников А.Б. Трансформация семьи: минорат и майорат//Социология. 2008. №1. С. 160-184.
- Узик А.В. Репродуктивные ориентации и семейное поведение//Социология. 2007. №1. С. 235-240.
- Флоренский П.А. Столп и утверждение истины: опыт православной теодицеи в 12 письмах. М.: Путь, 1914.
- Фромм Э. Любовь и ее распад в современном западном обществе//Его же. Искусство любить: исследование природы любви. URL: http://psylib.org.ua/books/fromm03/txt05.htm.
- Fromm E. The Art of love. London, 1957. P 6-48/пер. с англ. И.В. Борисовой//Семья: Книга для чтения: в 2 кн. М.: Политиздат, 1991. Кн. 2.