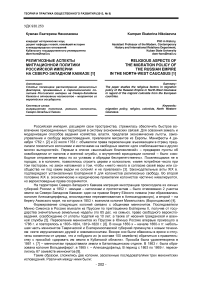Религиозные аспекты миграционной политики Российской империи на Северо-Западном Кавказе
Автор: Кумпан Екатерина Николаевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 9, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению религиозных факторов, применяемых в переселенческой политике Российской империи на Северо-Западном Кавказе в отношении колонистов - мигрантов из европейских государств.
Миграционная политика, религия, колонисты, северо-западный кавказ
Короткий адрес: https://sciup.org/14935684
IDR: 14935684 | УДК: 930.253
Текст научной статьи Религиозные аспекты миграционной политики Российской империи на Северо-Западном Кавказе
Российская империя, расширяя свои пространства, стремилась обеспечить быстрое вовлечение присоединенных территорий в систему экономических связей. Для освоения земель и модернизации способов ведения хозяйства, власти, предлагая экономические льготы, самоуправление и свободу вероисповедания, привлекали мигрантов из Европы. Манифесты 4 декабря 1762 г. [2] и 22 июля 1763 г. объявляли права переселенцев: въезжающим в страну предлагали поселиться колониями и местечками на свободных землях «для хлебопашества и других многих выгодностей». Первым в списке «высочайших благоволений» – предваряя пункты об освобождении от налогов и военной службы, о внутренней юрисдикции колоний – было «свободное отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно». Поселяющимся не в городах, а в колониях, позволялось строить церкви и колокольни, «имея потребное число при том пасторов», но закон напоминал о том, чтобы «никто никого в согласие своей веры или сообщества ни под каким видом не склонял и не привлекал» [3]. Законодательные акты XIХ в. подтверждают установленную Екатериной II для колонистов религиозную свободу. Во второй половине XIX в. экономические и юридические привилегии колонистов частично нивелируются, но вероисповедные права сохраняются.
На территорию Северо-Западного Кавказа миграция иностранцев происходила из южных губерний России: в 1852 г. немцам – католикам и протестантам – было отмежевано 2 участка земли на Северо-Западном Кавказе: один на правом берегу Ейского лимана (там образовалась колония Александерфельд, впоследствии переименованная в Александровскую), а второй – на берегу Азовского моря, на котором в 1853 г. возникла колония Михельсталь (Воронцовская) [4].
Формирование следующих колоний связано с общинами меннонитов. Последователи Менно Симонса в Россию въехали из Пруссии по приглашению Екатерины II, получив от государства значительные земельные наделы (по 65 дес. на семью), право свободного вероисповедания, освобождение от уплаты податей на 10 лет, а также от несения гражданской и военной службы [5]. Переселение меннонитов из Пруссии в Южную Россию впервые произошло в 1786 г. и повторялось в 1803–1804, 1819–1820 г. [6]. В конце 1850-х – начале 1860-х гг. небольшая часть меннонитов Таврической и Екатеринославской губерний примкнула к новым течениям: секте иерусалимских друзей и новоменнонитам. Вскоре они были обвинены в ереси и отлучены конвентом от церкви, что и побудило их (в составе 100 семейств) обратиться к правительству с просьбой «даровать им земли в Кубанской области». Просьба была удовлетворена в 1861 г. [7] – меннонитам предоставили земли в Баталпашинском отделе. В 1863 г. была образована колония Вольдемфирст, в 1865 г. – Александрфельд. В период с 1863 по 1869 г. переселились 67 семейств меннонитов [8].
Таким образом, сложились две колонии, заселенные последователями трех менонитских исповеданий. Различия между ними были:
-
- в регламентации религией поведения (новоменнонитам строго воспрещался табак, спиртное и «непристойные увеселения»);
-
- в отношении к крещению (у старо- и новоменнонитов крещение совершалось в сознательном возрасте, при этом некрещеным староменнонитам запрещалось вступление в брак; новоменнониты связывали вопрос крещения только с верой человека, не ущемляя его при этом в правах внутри общины, хотя настаивали на обязательном проведении крещения в реке; у иерусалимских друзей крещение проходило как обряд благословения детей);
-
- в отношении в духовным лицам (старо- и новоменнониты выбирали священников (духовных старшин) из своей среды, были «священники младшие и старшие»; у иерусалимских друзей «священник назначался советом из нескольких священников <...> все священники у них были равны между собой»).
Учитывая все вышесказанное, подчеркнем, что на обе колонии (Вольдемфирст и Алек-сандрфельд) имелась одна церковь, и церковный притч состоял из двух пасторов и одного дьякона [9].
В силу Высочайшего указа от 31 октября 1867 г. и с разрешения наместника от 5 ноября 1868 г. в Кавказский отдел приехала следующая группа немцев, преимущественно католиков, выходцев их Бессарабии и Таврической губернии и образовала колонию Семеновскую. Несколько позже рядом с Семеновской был выделен участок для новой колонии - Новониколаевской, в которой также поселились немцы-католики.
В 1868 г. еще одна община немецких протестантов, переселенцев из Бессарабии (в числе до 50-ти семейств) поселилась в пределах Кавказского отдела, образовав колонию Эйген-фельд, переименованную затем в Ванновскую. В следующем году западнее появилась колония Розенфельд (Шереметевская), также образованная 50 немецкими протестантскими семьями. Около 1871 г. западнее Розенфельда была организована колония Александерфельд (Леоновская). В Екатеринодарском отделе существовала немецкая протестантская колония Гнадау. В Таманском - Михаэльсфельд (селение Джигинское) и Пиленково. Обе протестантские, образованные в 1868 г. и 1886 г. соответственно. Население первой составили выходцы из Бессарабской и Таврической губерний, второй - только из Бессарабской [10]. В Баталпашинском отделе также была колония немцев-католиков - селение Рождественское. И.В. Кузнецов указывает, что в 1860-е гг. в Кубанской области появляются первые чешские поселения недалеко от Анапы, основанные католиками - Варваровка и Павловка [11].
Вообще на Кубани, вследствие поликонфессиональности колонистов, обычной была практика проживания в рамках одной колонии представителей различных вероисповеданий: лютеран, штундистов, менонитов, приверженцев протестантского направления «движения исхода» (они, считая Северный Кавказ местом спасения на Земле, в ожидании Страшного суда устремились в Ставропольскую губернию, в Терскую и Кубанскую области). Иногда представители разных групп собирались на общие праздники и совместно исполняли обряды, как правило, сохраняя при этом свою конфессиональную обособленность [12], но в то же время это явление способствовало возникновению новых течений в протестантизме.
Отношения местной администрации и немецких колонистов всех конфессий (кроме штун-дистов) вплоть до начала Первой мировой войны были лишены конфликтов: соблюдались права поселенцев на свободу вероисповедания, уважались их убеждения. Отметим, что в 1874 г. на меннонитов, отрицательно относившихся к государственной и военной службе, был распространен закон о всеобщей воинской повинности. В рамках империи это событие было воспринято как покушение на религиозные права меннонитов и вызвало продолжавшуюся до 1880 г. эмиграцию, во время которой в Америку и Канаду выехало около 15 тыс. меннонитов [13]. Эмиграция вынудила правительство в 1875 г. издать постановление, по которому они «освобождаясь от ношения оружия», должны были отбывать службу в «мастерских морского ведомства, в пожарных командах и в особых подвижных командах лесного ведомства» [14]. Но в Кубанской области за 16 лет существования колоний Вольдемфирст и Александрфельд лишь в 1881 г. был взят для службы один колонист, определенный в лесничество [15].
Воспитание и образование детей поселенцев проходило в рамках их традиций. В статье Л. Розенберга «Немецкая колония Семеновка Кубанской области» сообщалось, что только в 1892 г. дирекцией народных училищ был определен в Семеновскую школу русский учитель (до этого преподавали писарь и шульмейстеры). Л. Розенберг отмечал, что, по мнению немцев, школа в эту пору процветала, «чему де доказательством служили вопли истязаемых детей, доносившиеся до волостного правления, хотя последнее отделено от школы площадью». С приходом нового преподавателя шульмейстерские методы «отошли в область преданий», но «не понравились колонистам новые школьные порядки, тем более что с назначением русского учителя обращено особое внимание на русский язык». Что касается религиозного образования, то оно было сохранено в прежних объемах, в штате школы также состоял патер-законоучитель, преподававший закон Божий (отметим, что он выписывал из Германии книги и периодику на немецком языке) [16].
В период Первой мировой войны на Северо-Западном Кавказе лютеранская и католическая церковь, протестантские общины воспринимались местными властями как организации, представлявшие немецкие и австрийские интересы в России. Интересно, что подававшие на имя императора ходатайства об «изъятии их из действия» законов 2 февраля и 13 декабря 1915 г. об отчуждении немецкой, австрийской, венгерской земельной собственности и промышленных предприятий [17] должны были приложить к пакету документов (прошение, квитанции, свидетельства поручителей) анкету. Она была составлена так, чтобы имелось представление о степени интегрированности респондента в русское общество, среди прочих сведений необходимо было указать религиозную принадлежность, а также наличие и время «переходов» из одной веры в другую [18]. Был установлен контроль над духовенством указанных конфессий. Деятельность колоний на Северо-Западном Кавказе регламентировалась местной администрацией [19].
Ссылки и примечания:
-
1. Научное исследование проведено при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России в рамках реализации мероприятий ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. по теме «Политика России на Кавказе в прошлом и настоящем: документальная база, интерпретации и противодействие фальсификации истории» (Соглашение 14.B37.21.0966).
-
2. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 1. Т. 16. 28 июня 1762–1765 гг. Ст. 11720.
-
3. Манифест 22 июля 1763 г. о дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губер
ниях они пожелают и о дарованных им правах // ПСЗ. Собр. 1. Т. 16. Ст. 11880.
-
4. Городецкий Б.М. Немецкое землевладение на Кубани. Екатеринодар, 1915. С. 16–17; Кабузан В.М. население Северного Кавказа в XIX в. Этностатистическое исследование. СПб., 1996. С. 80.
-
5. Городецкий Б.М. Указ. соч. С. 23.
-
6. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 774. Оп. 2. Д. 155. Л. 5.
-
7. Заалов М. Меннониты и их колонии на Кавказе // Сб. материалов для описания местности и племен Кавказа. Ти
флис, 1897. Вып. 23. Отд. 2. С. 90.
-
8. Твалчрелидзе А. Колонии меннонитов Вольдемфирст и Александрфельд Кубанской области // Сборник материалов для описания местности и племен Кавказа. Тифлис, 1886. Вып. 5. Отд. 1. С. 213.
-
9. Дородницын А. (епископ). Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на Юге России во второй половине XIX столетия. Казань, 1908. С. 55–57; Твалчрелидзе А. Указ. соч. С. 225–227.
-
10. Городецкий Б.М. Указ. соч. С. 18–19, 22; Кириченко Н. Год у немецких колонистов. Описание колонии Эйгенфельд, Кавказского отдела, Кубанской области // Кубанский сб. Тр. областного статистического комитета. Т. VI. Екатерино-дар, 1900. С. 3.
-
11. Кузнецов И.В. Чехи Кавказа // Бюллетень. Антропология, меньшинства, мультикультурализм. 1999. № 1. С. 116, 119.
-
12. Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь (последняя четверть XVIII – середина ХХ вв.). Ставрополь, 2002. С. 7–8.
-
13. Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России. Петроград, 1916. С. 79.
-
14. Высочайше утвержденное мнение государственного Совета об отбывании обязательной службы меннонитами // ПСЗ. Собр. 2. Т. 50. 1875. Ст. 54568.
-
15. Твалчрелидзе А. Указ. соч. С. 224.
-
16. Розенберг Л. Немецкая колония Семеновка Кубанской области Кавказского отдела // Сб. материалов для описания местности и племен Кавказа. Тифлис, 1900. Вып. 27. С. 187–191.
-
17. История российских немцев в документах (1763–1992 гг.). М., 1993. C. 54–56.
-
18. Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь (последняя четверть XVIII – середина ХХ вв.). С. 95.
-
19. ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5834. Л. 20–23, 50.