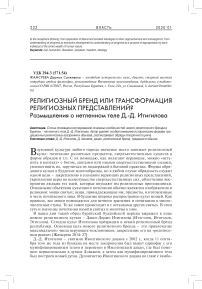Религиозный бренд или трансформация религиозных представлений? Размышления о нетленном теле Д.-Д. Итигилова
Автор: Жамсуева Дарима Санжиевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию основных особенностей нового религиозного бренда в Бурятии - нетленного тела Д.-Д. Итигилова. Автор уделяет особое внимание историческим формам традиционных религиозных воззрений и обычаев, рассматривает обряды похоронного цикла.
Д.-д. итигилов, д. аюшеев, дацан, религиозный бренд, традиции и обычаи
Короткий адрес: https://sciup.org/170171089
IDR: 170171089 | УДК: 294.3 | DOI: 10.31171/vlast.v28i1.7081
Текст научной статьи Религиозный бренд или трансформация религиозных представлений? Размышления о нетленном теле Д.-Д. Итигилова
В духовной культуре любого народа значимое место занимает религиозный культ: почитание различных предметов, сверхъестественных существ в форме обрядов и т.п. С их помощью, как полагают верующие, можно «вступить в контакт» с богом, святыми или иными сверхъестественными силами, умилостивить их, заручиться их поддержкой в бытовой практике. Формы обрядового культа в буддизме многообразны, но в любом случае обрядность служит одной цели – закреплению в сознании верующих религиозных представлений, укреплению веры во всемогущество сверхъестественных сил, облегчению восприятия людьми тех идей, которые внушают им религиозные проповедники. Основными объектами культового почитания обычно являются изображения и реликвии: мощи святых; вещи, принадлежавшие им; предметы, изготовленные в честь почитаемого лица. В буддизме широко распространен культ мощей. Как правило, все мощи помещаются для вечного хранения и почитания в многочисленные ступы. То же самое происходит и с останками других святых. В этом суть и значение почитания памяти святых и молитвы к ним.
В наши дни такой образ бурятской буддийской церкви выражен в лице нового религиозного культа – Даши-Доржо Итигилова (Итэгэлов, Итигэлов, Этигэлов). Сегодня культ Итигилова превращен в некий религиозный бренд республики. Основная цель нового религиозного бренда – это привлечение максимального числа верующих-поклонников, закрепление его на «религиозном рынке» [Жамсуева 2014: 27].
Д.-Д. Итигилов – святыня Иволгинского дацана с 2002 г., когда 11 сентября того же года из бумхана на месте захоронения был вынут саркофаг с его мумифицированным телом и перевезен в Иволгинский дацан, где был помещен первоначально в дугане Дэважин, а затем для мумифицированного тела был построен новый дуган. Духовенство Иволгинского дацана во главе с хамбо- ламой Дамбой Аюшеевым считает это событие мировой сенсацией и возлагает большие надежды на то, что святыня с нетленными останками Итигилова сделает дацан центром мирового паломничества. «Бурятское чудо» укрепит авторитет дацана, усилит буддийскую религию в Бурятии. По благословению хамбо-ламы Д. Аюшеева в календарь этого дацана по назначенным дням было внесено паломничество, которое совершается по определенному расписанию. Наверное, в каждом доме и у каждого верующего этнической Бурятии имеется копия этого чудотворного образа. Народ любит и почитает этот образ, об этом свидетельствует огромное число верующих и даже любопытствующих, которые прикасаются к нетленному телу Д.-Д. Итигилова. Вероятно, каждый из тех, кто приходит поклониться его мощам, вкладывает свое понимание, имеет субъективное мнение [Жамсуева 2014: 28].
С 2010 г. Буддийская традиционная сангха России проводит конференции, посвященные феномену нетленного тела буддистского святого XII Пандито хамбо-ламы с участием религиозных и общественных деятелей из разных городов России, Монголии, Китая, Узбекистана. В социальных сетях с личной страницы хамбо-ламы Дамбы Аюшеева публикуются практически ежедневно послания от «вечно живого» ламы Итигилова.
Данный факт мумификации тела умершего церковного иерарха не является единичным в истории азиатского буддизма. В Тибете существовал обычай «красных останков» – мумификации, бальзамирования тела умерших избранных перерожденцев – далай-лам и панчен-богдо. Их тела консервировались солью, высушивались, помещались в мавзолей из драгоценных металлов, становились объектом культа. Существуют и описания двух способов сакрализации и канонизации останков умерших иерархов. Первый из них: мумифицированный труп покрывался (консервировался) особым составом, голова и руки – золотой краской с лаком, тело облачалось в соответствующие одежды, тем самым он становился материальным объектом поклонения. По другому способу, изготавливалась посмертная портретная статуя, в которую импортировался шарил – частицы кремированного тела данного человека [Герасимова 1989: 119].
В Музее истории Бурятии хранятся посмертные статуи двух ширетуев (настоятелей): Банзаракшеева и Аюшеева. Известен другой исторический факт: труп наследника Самдана Цыденова Доржи Бадмаева, умершего от тифа, был мумифицирован, внутренности вынуты, останки помещены в мавзолей для поклонения.
Обычай бальзамирования, мумификации трупа исходно основан на традиции древних представлений о «живом покойнике», дошедших до наших дней в фольклорных, мифологических сюжетах, в народных обычаях. Умерший считался живым, но ушедшим в инобытие, где жизнь с ее материальными потребностями продолжалась в особой форме. Этими представлениями объясняются обрядовые обычаи сохранения тела, стремление защитить телесную плоть от разложения посредством бальзамирования, мумификации, положения трупа в мраморные, серебряные, золотые саркофаги. Головной мозг, внутренние органы помещались в особые сосуды из прочных материалов. Кроме того, для головы применялись погребальные лицевые покрытия, раскрашенные глиняные, серебряные, золотые маски. Для различных частей тела использовались нефритовые пластины и втулки.
Данные обычаи относятся к предшествующей стадии формирования представления о духовном факторе витальности – душе, парциальных душах сенсорного и рассудочного сознания. Но значение телесной основы жизненности не исчезает, об этом можно судить по фактам похоронных и поминальных обычаев древности, средневековья и современности. Как отмечает исследователь К.М. Герасимова, в похоронном обряде тибетских правителей Ярлунгской династии (VII–VIII в. н.э.) в гробницу подземной погребальной камеры помещали статуарное изображение умершего (в натуральном измерении), вместилище костных останков, вместилище «грудных органов». Поверх кургана воздвигалось храмовое святилище и каменная стела в память личной славы умершего [Герасимова 1989: 115-116]. В этих действиях уже четко проявилось разграничение телесного и духовного факторов. Сердце, трахея, легкие – телесное вместилище души, дыхания, центра сенсорного и познавательного сознания. Позднее в буддийских понятиях о витальной структуре человека определились жизненные функции комплекса телесных и духовных сил. При жизни человека все парциальные телесные и духовные души совокупно обеспечивают жизнедеятельность организма. После смерти их функции разъединяются, резко дифференцируются – телесная плоть превращается в злых вредоносных духов покойников, духовный фактор становится инкарнирующейся душой, которая или перерождается для новой жизни земного бытия, или переселяется в обитель предков (у буддистов – в «чистые земли» рая Амитабы, Майтреи, Минтугбы) [Герасимова 1992: 150].
Эти онтологические концепции определяют содержание похоронных и поминальных обрядов, характер отношения к телесным останкам и душе умершего. Похоронные обычаи – это прежде всего удаление трупов из бытовой сферы посредством кремации, захоронения в земле, оставления на поверхности земли для хищных птиц и зверей. Значительная часть обрядовых действий направлена на магическое очищение телесных останков путем посыпания заговоренным песком, горчичными зернами, кропления святой водой, на ритуальное обезвреживание злых духов покойников посредством умилостивительных жертвоприношений, устрашения угрозами сжечь огнем, уничтожить силой. После такого воздействия злых духов изгоняют в запретные места.
Инкарнирующуюся душу защищают от вредоносного влияния собственных конституционных телесных духов и от чужих неприкаянных духов покойников. Духовная сфера умершего очищается от моральной скверны, загрязненности мирскими пороками сладострастия, злобы, невежества, привязанности к своему «я» и чувственным радостям обыденного бытия. Ритуальное очищение жизненного центра головы должно предотвратить превращение 7 парциальных душ сенсорного сознания (2 глаза, 2 уха, 2 ноздри носа, рот) в 7 духов «дон». 49 дней пребывания в загробной сфере бардо – это 7 недель освобождения семи парциальных душ от телесной плоти. Очищенную просветленную душу умершего отправляют в райские земли. Кремированные кости толкут, смешивают с пеплом погребального костра, по другой традиции – пепел сожженного «минчжана» (условный заменитель тела умершего) смешивают с глиной, делают 5 пирамидок ца-ца, которые ставят на могильную насыпь или на скальные выступы, и т.д. Это означает, что телесная плоть умершего объединилась со скандхами (основополагающими элементами любой формы жизни, которыми ведают 5 дхьяни будд), с дхармами бытия, и душа через 49 дней переродилась где-либо в соответствии со своей кармой [Герасимова 1970: 34-36]. Таким образом, в могиле не остается ничего значимого в контексте буддийских понятий.
В ламаистском похоронном обряде в Бурятии сохраняются следующие элементы древних обычаев, основанных на представлениях о «живом покойнике»: кормление умершего – перед трупом ставятся тарелки с пищей, в обряде присутствует «минчжан» – изображение заместителя умершего, перед ним также ставится тарелка с пищей и светильник. Через 49 дней (или сразу после выноса покойника из дома) «минчжан» сжигается. Тибетцы считали, что если «минч-жан» не сжечь, то дух покойника будет появляться в доме. Эти фрагменты добуддийских верований сочетаются с буддийскими понятиями, которые дик- туют необходимость обрядовой магии обезвреживания духов телесной природы человека [Герасимова 1989: 126].
Что же в мумифицированном теле Итигилова может быть объектом поклонения с точки зрения онтологических буддийских понятий о внутренней структуре человека? Труп сам по себе – источник вредоносных духов мертвой плоти. Обожествляться может только духовный фактор – инкарнирующаяся душа, но она не задерживается в мумифицированном теле. В начале похоронного обряда магическими действиями ловят душу, которая покинула тело и находится где-то в пространстве, вселяют ее через череп в сердце покойного и тем самым оживляют труп, восстанавливают тело, если обряд производят с «минчжаном». В конце обряда очищения телесных и духовных факторов жизни душа вступает на путь перерождения. Через 49 дней душа перерождается в зависимости от показателей своей кармы. Если душа остается или входит в мертвое тело, возникает «оролон» – оборотень, упырь.
Таким образом, поклонение мумифицированному телу Д.-Д. Итигилова в лучшем случае – дань добуддийским верованиям древности.
Любая религия, как правило, требует от человека веры. Успешный религиозный бренд господина Д. Аюшеева представляет собой, на наш взгляд, элемент новой «философии» управления верующими. Будет ли в идеале он безоглядным и действенным, покажет время. Любая религия, как правило, обещает чудеса. Бренд господина Д. Аюшеева также сулит чудесное и быстрое избавление от любых проблем.
Список литературы Религиозный бренд или трансформация религиозных представлений? Размышления о нетленном теле Д.-Д. Итигилова
- Герасимова К.М. 1970. Ламаистская трансформация анимистических представлений. - Материалы по истории и филологии Центральной Азии: труды Бурятского института общественных наук. Новосибирск: Наука С. 31-39
- Герасимова К.М. 1989. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новосибирск: Наука. 320 c
- Герасимова К.М. 1992. Похоронные обрядники тибетских и монгольских авторов в XVI-XIX вв. - Традиционная обрядность монгольских народов: сборник статей. Новосибирск: Наука. С. 133-157
- Жамсуева Д.С. 2014. Хамбо-лама Д.-Д. Итигэлов в материалах А.М. Позднеева (представление неизвестных страниц биографии). - Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. № 4(16). С. 26-33