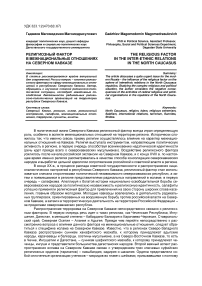Религиозный фактор в межнациональных отношениях на Северном Кавказе
Автор: Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 1, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается крайне актуальный для современной России вопрос - влияние религиозного фактора на сферу межнациональных отношений в республиках Северного Кавказа. Автор, обращаясь к изучению сложной религиозно-политической ситуации, исследует негативные последствия деятельности радикальных религиозно-политических организаций на территории республик Северного Кавказа.
Северный кавказ, религия, ислам, религиозный экстремизм, салафизм, межнациональные отношения, терроризм, сунниты, шииты
Короткий адрес: https://sciup.org/14931594
IDR: 14931594 | УДК: 323.1:2(470.62/.67)
Текст научной статьи Религиозный фактор в межнациональных отношениях на Северном Кавказе
В политической жизни Северного Кавказа религиозный фактор всегда играл определяющую роль, особенно в аспекте межнациональных отношений на территории региона. Исторически сложилось так, что именно сквозь призму религии осуществлялось влияние на характер межнациональных отношений на Кавказе. Религия выступала инструментом, направляющим политическую активность в регионе, в первую очередь способствуя возникновению надэтнической идентичности (речь идет прежде всего о северокавказских мусульманах). Воздействие религиозного фактора усилилось после начала российской экспансии на Северном Кавказе, и с конца XVIII в. по настоящее время именно религия рассматривалась в качестве способа консолидации северокавказских народов и выработки цельной идеологии сопротивления российской и советской власти в регионе.
В конце ХХ в., в процессе распада советской государственности и распространения националистических настроений в республиках Северного Кавказа, религиозный фактор стал использоваться сначала сторонниками политической независимости северокавказских республик, а затем и появившимися в регионе представителями радикальных направлений в исламе, в первую очередь – салафизма. Апеллируя к богатой истории национально-освободительной борьбы северокавказских народов за политическую независимость и религиозную идентичность, салафиты успешно применяли религиозный фактор для привлечения на свою сторону широких слоев населения, главным образом молодежи. Молодые кавказцы вовлекались в деятельность радикальных группировок, ориентированных на вооруженную борьбу против российской власти на Северном Кавказе, а затем и в террористическую деятельность на территории Российской Федерации – за пределами северокавказских республик.
Распространение терроризма на Северном Кавказе непосредственно связано с религиозным фактором. В первую очередь речь идет о таких регионах, как Чеченская Республика, Ингушетия, Дагестан, в меньшей степени – Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Северная Осетия – Алания и Адыгея. Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению вопроса о влиянии данного фактора на межнациональные отношения, следует обратиться к специфике ислама на Северном Кавказе. Известно, что в регионах Северо-Западного Кавказа распространен суннизм ханафитского мазхаба, к которому принадлежат адыгские народы, карачаевцы и балкарцы, осетины-мусульмане, а на Северо-Восточном Кавказе, то есть в Чечне, Ингушетии и Дагестане, – суннизм шафиитского мазхаба, к которому принадлежат чеченцы, ингуши и представители большинства дагестанских народов. Второй важный аспект распространения ислама на Северном Кавказе связан с утверждением трех ключевых суфийских религиозных орденов (тарикатов) – накшбандия, кадирия и шазалия. Ордена представляли собой сплоченные организации учеников – мюридов во главе с шейхами, призывавшими к полному и безоговорочному повиновению. В Дагестане, а позже и Чечне, суфийские ордена тесно переплелись с местными этническими группами, тейпами и тукхумами [1, с. 111].
В период многолетней Кавказской войны суфийские тарикаты стали эпицентром объединения кавказских народов против Российской империи. Важнейшую роль здесь сыграла соответствующая политика Османской империи, которая в геополитическом противостоянии с Россией использовала религиозный фактор в качестве основного инструмента разжигания антироссийских настроений в среде народов Северного Кавказа. Более того, Османская империя прямо угрожала преследованием тем, кто откажется присоединиться к борьбе против «неверных». Объединить горские народы посредством обращения к их религиозным взглядам было гораздо проще, чем применять дискурс национально-освободительной борьбы. Объясняется это тем, что чеченцы, ингуши, многие этносы Дагестана еще не сформировали нации к моменту начала российской экспансии на Северном Кавказе. В условиях практического отсутствия государственности религиозный фактор становился основой формирования кавказской идентичности.
Однако в последующий период истории региона именно суфийские тарикаты, представляющие традиционный для Северного Кавказа ислам, стали скорее союзниками российской власти в борьбе против деятельности экстремистских и террористических группировок, в особенности связанных с проникшим из Саудовской Аравии и ряда других арабских стран салафизмом. Лидеры тарикатов прекрасно понимали, что распространение салафизма влечет за собой изживание суфизма на территории Северного Кавказа, а значит - суфийским тарикатам выгодна политика Российской Федерации по противоборству терроризму и экстремизму, препятствующая и распространению салафизма.
Рост числа приверженцев салафизма был обусловлен в первую очередь резким ухудшением социально-экономической ситуации на Северном Кавказе, разочарованием молодежи в политике руководства национальных республик и, что немаловажно, в деятельности традиционного духовенства региона. Оно с начала 1990-х гг. пыталось по-своему противостоять распространению салафизма в регионе, видя в нем угрозу собственным религиозным и политическим позициям. Еще в 1992 г. на Чрезвычайном объединительном съезде мусульманского духовенства Чеченской Республики было объявлено о существовании серьезной угрозы в лице распространения религиозного экстремизма [2]. Традиционное духовенство потребовало от светских властей Чечни полного запрета деятельности салафитов на территории региона. Однако эта задача в процессе дальнейшего обострения отношений с федеральными властями выполнена не была.
Во время первой чеченской кампании именно салафитские отряды превратились в наиболее непримиримые, воинственные и жестокие по отношению к федеральным силам и мирному населению. Эта причина, а в еще большей степени - зависимость от финансирования со стороны международных фондов и средств Саудовской Аравии заставили руководство сепаратистов смириться с деятельностью салафитов. Несколько позже последние заняли лидирующие позиции в чеченском сепаратистском движении, после чего оно перестало носить этносепаратистский характер и трансформировалось в религиозно-экстремистское движение, выступающее за ведение религиозной войны против «неверных» на всей территории России, а также и за ее пределами (что успешно демонстрируется в последнее время участием выходцев с Северного Кавказа в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в России группировки «Исламское государство» и ряда других радикальных организаций).
Деятельность салафитов распространилась и на другие регионы Северного Кавказа, причем благоприятной почвой для усиления радикального ислама стало отсутствие значительного количества образованных богословов в среде традиционного духовенства, способных работать с местной молодежью. Салафитские проповедники, пользуясь сложившейся ситуацией, развивают активность в молодежной среде и вербуют новых сторонников, причем не только среди «этнических» мусульман, но и среди новообращенных, включая лиц русской национальности и др. И.П. Добаев подчеркивает, что «анализ материалов, связанных с деятельностью "молодежных джамаатов", позволяет сделать прогноз на перспективу: эти сетевые структуры доказали свои жизнеспособность, автономность и самовосстанавливаемость. Сегодня группировки боевиков-ваххабитов объединяются на новейшей идеологической основе, разработанной в зарубежных исламистских центрах и уже дополненной собственными идеологическими наработками. Неизбежной политической практикой носителей идеологии религиозно-политического экстремизма всегда был, есть и будет терроризм» [3, с. 5-7].
До 2013–2014 гг. основной террористической организацией, действующей на территории Северного Кавказа, оставался «Имарат Кавказ», сформировавшийся на основе чеченского сепаратистского движения и появившийся позже «молодежных джамаатов», проявлявших активность в национальных республиках региона. Однако в настоящее время у «Имарата Кавказ» наблюдается новый активный соперник – «Исламское государство», призывающее к участию мусульман Северного Кавказа в джихаде на Ближнем Востоке.
Деятельность этой организации на Северном Кавказе фактически влечет за собой сокращение местного радикального подполья, поскольку его наиболее активные и воинственно настроенные участники отправляются в Сирию и Ирак сражаться на стороне «Исламского государства» [4]. Соответственно, ослабляются позиции «Имарата Кавказ» в северокавказских республиках, но и противопоставить что-либо пропаганде «Исламского государства» «Имарат Кавказ» не может, поскольку в отличие от последнего у «Исламского государства» есть отвоеванная территория с реально действующими шариатскими законами, собственные сражающиеся вооруженные формирования и т. д.
Наличие радикальных исламистских организаций на территории Северного Кавказа представляет собой непосредственную угрозу и межнациональным отношениям в регионе. Хорошо известно, что за последние два десятилетия в таких республиках Северного Кавказа, как Чечня, Ингушетия и Дагестан, значительно сократилось количество русского населения и вообще немусульманского. При этом в Чечне и Ингушетии оно фактически исчезло. Более того, уменьшается русское и казачье население в ряде районов Ставропольского края.
Российский социолог Михаил Романов считает, что сокращение численности русского населения на Северном Кавказе способствует отдалению данного региона от России в целом, но официальная национальная политика упорно этот факт игнорирует. Хотя даже в тексте Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)» подчеркивается, что определенные трудности, которые РФ испытывала в постсоветский период, привели к «ограничению в некоторых субъектах Российской Федерации прав нетитульного, в том числе русского, населения» [5]. В то же время набор мероприятий, предлагаемых в рамках данной программы, носит, скорее, культурно-просветительский характер, что может в перспективе означать ее низкую эффективность в процессе практической реализации, особенно на территории национальных республик Северного Кавказа и в ряде пограничных (Ставропольский и Краснодарский края, Астраханская и Ростовская области) регионов.
Таким образом, одна из важнейших причин сохранения некоторой напряженности в сфере межнациональных отношений на Северном Кавказе – присутствие радикальных религиозных организаций, рассматриваемых немусульманским населением национальных республик в качестве потенциальной угрозы стабильности и порядку. Кроме того, немаловажную роль играет и официальная политика властей ряда национальных республик, направленная фактически на утверждение в них очевидного приоритета одной из традиционных конфессий. Данная проблема является очень серьезной в свете возможного возвращения в Чечню и Ингушетию русского населения. Как отмечает Ю.А. Будницкая, «в качестве основной задачи миграционной политики для национальных республик необходимо сократить процесс миграционного оттока русского населения из них и стимулировать возвращение русского населения в республики. Это позволит затормозить процесс этноизоляции национальных республик и будет способствовать восстановлению и в дальнейшем развитию тех сфер экономики (промышленность, образование, здравоохранение, крупное сельскохозяйственное производство), в которых было занято русское население» [6, с. 12].
В то же время крайне тревожным фактором выступает и невысокая эффективность политики по профилактике распространения радикальных взглядов в молодежной среде. Последнее, на наш взгляд, тесно связано с общим уровнем социально-экономического положения северокавказских республик, сложившихся в них социально-политических систем. Молодежь не видит альтернативы многочисленным проявлениям коррупции, кумовства, колоссальной социальной поляризации, поэтому и находит себя в радикальных движениях, отправляясь воевать за интересы «Исламского государства» в Сирию и Ирак. По нашему мнению, именно нормализация взаимоотношений между представителями традиционного ислама и «мирного» салафизма, о которой говорит и известный российский кавказовед А. Ярлыкапов, сможет значительно сократить количество молодежи, встающей на салафитские позиции, а затем под влиянием преследований со стороны правоохранительных органов уходящей в вооруженное подполье. Такой опыт, как отмечает А. Ярлыкапов, имеет Дагестан – здесь в 2010 г. было прекращено преследование «мирных» салафитов, предпочитающих проповедническую деятельность экстремистской, после чего между традиционным духовенством и салафитами установилось относительное взаимопонимание [7]. Подобная практика при соответствии конкретике республик может быть использована и в других регионах Северного Кавказа в целях обеспечения безопасного развития в условиях вызовов современной реальности [8].
Таким образом, мы можем отметить, что религиозный фактор оказывает серьезное влияние на межнациональные отношения в республиках Северного Кавказа. В первую очередь оно проявляется в последствиях деятельности радикальных религиозных организаций и группировок, негативно воздействующих на социально-политическую стабильность региона, прибегающих к совершению противоправных действий, способствующих оттоку немусульманского населения из ряда национальных республик Северного Кавказа. Минимизация данного негативного фактора может быть связана как с мерами правоохранительного характера, так и с нормализацией взаимоотношений между традиционным исламом и представителями «мирного» крыла фундаменталистов. В любом случае вне общей модернизации социально-политической и социально-экономической системы улучшение религиозно-политической ситуации в регионе вряд ли возможно.
Ссылки:
-
1. Савенко Г.П. Религиозный фактор и его роль в обосновании террористической деятельности на Северном Кавказе: исторический опыт и современная практика // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2007. Т. 4, № 8. С. 108–113.
-
2. Музаев T. Этнический сепаратизм в России. М., 1999.
-
3. Добаев И.П. Современный терроризм: региональное измерение / отв. ред. Ю.Г. Волков. Ростов н/Д., 2009. С. 5–7.
-
4. Ярлыкапов А. Современный ислам на Кавказе: глобальное и региональное [Электронный ресурс]. URL:
-
5. Романов М. Почему мы теряем Северный Кавказ? [Электронный ресурс]. URL: http://expert.ru/ex-
pert/2013/48/pochemu-myi-teryaem-severnyij-kavkaz (дата обращения: 06.11.2015).
-
6. Будницкая Ю.А. Демографические и миграционные процессы, их этнокультурные особенности в субъектах Северного Кавказа : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2009.
-
7. Ярлыкапов А. Указ. соч.
-
8. Самыгин С.И., Верещагина А.В. Глобальные вызовы современности и безопасность цивилизации третьего тысячелетия // European Social Science Journal = Европейский журнал социальных наук. 2014. Т. 2, № 6.
(дата обращения: 05.11.2015).
Список литературы Религиозный фактор в межнациональных отношениях на Северном Кавказе
- Савенко Г.П. Религиозный фактор и его роль в обосновании террористической деятельности на Северном Кавказе: исторический опыт и современная практика//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2007. Т. 4, № 8. С. 108-113.
- Музаев T. Этнический сепаратизм в России. М., 1999.
- Добаев И.П. Современный терроризм: региональное измерение/отв. ред. Ю.Г. Волков. Ростов н/Д., 2009. С. 5-7.
- Ярлыкапов А. Современный ислам на Кавказе: глобальное и региональное . URL: http://old.mgimo.ru/news/experts/document268592.phtml (дата обращения: 05.11.2015).
- Романов М. Почему мы теряем Северный Кавказ? . URL: http://expert.ru/expert/2013/48/pochemu-myi-teryaem-severnyij-kavkaz (дата обращения: 06.11.2015).
- Будницкая Ю.А. Демографические и миграционные процессы, их этнокультурные особенности в субъектах Северного Кавказа: автореф. дис.. канд. экон. наук. М., 2009.
- Самыгин С.И., Верещагина А.В. Глобальные вызовы современности и безопасность цивилизации третьего тысячелетия//European Social Science Journal = Европейский журнал социальных наук. 2014. Т. 2, № 6.