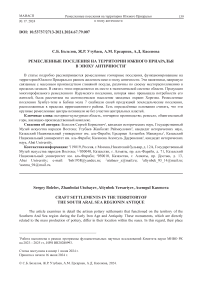Ремесленные поселения на территории Южного Приаралья в эпоху античности
Автор: Болелов С.Б., Утубаев Ж.Р., Ерсариев А.М., Касенова А.Д.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Статья в выпуске: 17, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье подробно рассматриваются ремесленные гончарные поселения, функционировавшие на территории Южного Приаралья в раннем железном веке и эпоху античности. Эти памятники, напрямую связанные с массовым производством глиняной посуды, различны по своему месторасположению в пределах оазисов. В связи с этим определяется их место в экономической системе области. Продукция многопрофильного ремесленного Нурумского поселения, которая явно превышала потребности его жителей, была рассчитана на скотоводческое население западных окраин Хорезма. Ремесленные поселения Хумбуз-тепе и Бабиш мола 7 снабжали своей продукцией земледельческие поселения, расположенные в пределах ирригационного района. Есть определённые основания считать, что эти крупные ремесленные центры возникали не без участия центральных властей.
Историко-культурная область, гончарное производство, ремесло, обжигательный горн, жилищно-производственный комплекс
Короткий адрес: https://sciup.org/14131530
IDR: 14131530 | DOI: 10.53737/2713-2021.2024.67.79.007
Текст научной статьи Ремесленные поселения на территории Южного Приаралья в эпоху античности
Благодаря уникальным природным условиям, на территории Южного Приаралья в зоне древнего орошения до 70-х гг. прошлого века, в пустыне сохранились древние поселения и целые древнеземледельческие оазисы, включавшие в себя пахотные угодья, остатки усадеб, ирригационные системы, следы ремесленных производств. Сплошное картографирование археологических памятников региона с использованием материалов аэрофотосъемки 50-х — 60-х гг. ХХ в. предоставило уникальную возможность рассматривать ряд отдельных объектов, связанных с ремесленным производством, в первую очередь гончарным (обжигательные горны, гончарные мастерские и отдельные производственные центры), как взаимосвязанную экономическую подсистему, которая, как представляется, была одним из основных структурных элементов общей палеоэкономической системы области. Анализ данных, полученных в процессе многолетних исследований археолого-топографического отряда под руководством Б.В. Андрианова и материалов аэрофотосъёмки, даёт возможность рассматривать эти вопросы комплексно, на всей территории Южного Приаралья, учитывая типы поселений, выявляя районы концентрации и места расположения производств относительно населённых пунктов и водных источников (Андрианов 1969) (рис. 1).
Среди археологических памятников, связанных с производством на территории Южного Приаралья, помимо производственных центров и отдельных гончарных мастерских выделяются специализированные и многопрофильные ремесленные поселения.
Наиболее ранним таким поселением является Хумбуз-тепе на территории южной части Левобережного Хорезма. Памятник расположен в 17 км к востоку от пос. Хазарасп (Хорезмская обл., РУз), в северо-восточной части Ташсакинского плато, на левом берегу р. Амударьи. Памятник был открыт и обследован в 1973 г. в ходе маршрутных исследований в связи с составлением археологической карты Хорезмской области (Мамбетуллаев, Юсупов 1974: 483). В начале 1970-х гг. в площадь поселения составляла 4,6 га. Оно вытянуто вдоль берега реки с северо-запада на юго-восток на 520 м. Ширина его — 65—82 м от береговой линии (рис. 2: А )1.
Нижние слои памятника датируются не позднее 2-й пол. VII — начала VI в. до н.э. (Болелов 2019: 60). Недостаточная изученность архитектурных остатков на этом памятнике не даёт оснований определить, к какому типу поселений он относится. Во всяком случае,
Ремесленные поселения на территории Южного Приаралья № 17. 2024 в эпоху античности можно с уверенностью говорить, что поселение было неукреплённым. Первый исследователь памятника М. Мамбетуллаев упоминает о чередовании архитектурных остатков с керамическими отвалами (Мамбетуллаев 1984: 22). Верхние культурные слои поселения были полностью уничтожены в результате планировки поверхности под строительство. Наличие здесь на небольшой сохранившейся площади 520 × 65—80 м девяти керамических горнов и остатков каких-то построек рядом с ними, о которых говорится в первой публикации памятника (Мамбетуллаев, Юсупов 1974: 483; Мамбетуллаев 1984: 21—38), позволяет предполагать, что Хумбуз-тепе действительно являлся ремесленным поселением или производственным керамическим центром. Археологические исследования пос. Хумбуз-тепе были продолжены в 1996—1997 годах отрядом Хорезмской экспедиции (ИЭА РАН) совместно с Государственным Музеем-заповедником «Ичан-кала» (г. Хива, РУз). В центре его вскрыто несколько помещений, которые относятся к первому (наиболее раннему) и второму периоду жизни памятника (Болелов 2004: 48—55). Состав археологического комплекса, полученного в ходе раскопок, однозначно свидетельствует о том, что это были жилищно-производственные помещения. О том, что в них формовалась посуда, можно судить по находкам уже изготовленных, но необожжённых сосудов, которые обнаружены в культурных слоях как первого, так и второго периода. Здесь же были найдены фрагменты крупных выпукло-вогнутых керамических дисков с небольшим, резко опущенным бортиком по краю с внешней стороны, которые можно квалифицировать как подкладные, использовавшиеся при формовке крупных сосудов, прежде всего хумов и хумчей. В северной части поселения была раскопана часть гончарной мастерской, располагавшейся рядом с обжигательным горном (рис. 2: Б). В сохранившейся части мастерской у стены in situ зафиксирована нижняя часть стационарно установленного хума. В 5 м к западу от него, также вплотную к стене помещения, обнаружено еще пять вкопанных вверх дном крупных цилиндроконических сосудов — диаметр тулова 30—35 см, у которых ещё в древности были отбиты днища. В них найдены комки промышленной глины и бесформенные куски материковой глины коричневого цвета. В помещении обнаружены фрагменты сформованных, но необожжённых сосудов и выпукло-вогнутый диск диаметром 70 см, а также железный нож с изогнутой спинкой и невыделенной утолщённой рукоятью. Длина ножа вместе с ручкой составляет 17 см. Типология и хронология железных ножей 2-й четв. — сер. I тыс. до н.э. разработана недостаточно. В большинстве случаев они датируются в комплексе по сопутствующему материалу (подробнее: Сагдуллаев 1982: 229—234). В монографии, посвященной публикации материалов могильника Южный Тагискен, М.А. Итина и Л.Т. Яблонский высказали осторожное предположение о том, что ножи с невыделенной рукоятью и горбатой спинкой вошли в употребление немного раньше, чем ножи с выделенной ручкой. Судя по материалам сакских могильников Приралья, они встречались в погребениях, верхняя дата которых вполне укладывается в пределы VII в. до н.э. (Итина, Яблонский 1997: 40). Кроме аналогий, которые нож из Хумбуз-тепе находит в материалах сакских могильников, можно вспомнить ножи этого же типа, найденные на поселении Куюсай 2, датированные VII— VI вв. до н.э. (Вайнберг 1979: табл. Xа: 6, 7), железные ножи, представленные в комплексе городища Кюзели-гыр (Болелов 2016: 37, рис. 7), а также железный нож из поселения Дара-тепе в Южном Согде (Сагдуллаев 1987: 58, рис. 2). В связи с предложенной датировкой ножей этого типа (не позднее VI в. до н.э.) необходимо заметить, что на усадьбе Дингильдже в правобережном Хорезме (сер. V в. до н.э.) найдены только однолезвийные ножи с выделенной рукоятью или черенком (Воробьева 1973: 149).
По комплексу артефактов из заполнения мастерской её можно датировать не позднее конца VI в. до н.э. (Болелов 2019: 60—64). Надо полагать, этим же временем датируется и двухъярусный, округлый в плане обжигательный горн с вертикальным ходом горячих газов, раскопанный в непосредственной близости от помещения мастерской. Топочная камера вырублена в материке и имела овальную в плане форму. Площадь обжигательной камеры
№ 17. 2024
первоначально была немногим более площади топки. По конструктивным и технологическим признакам это обжиговое устройство находит прямые аналоги на территории дельты Мургаба (Сарианиди 1957: 72—77; Болелов 2002a: 89).
На основании материалов из раскопок, проведённых в 1996—1997 гг. на поселении Хумбуз-тепе, определённо можно говорить о том, что это был гончарный производственный центр или ремесленное поселение, которое было основано на территории южного Хорезма не позднее 2-й пол. VII в. до н.э. и функционировало, по крайней мере, до начала III в. до н.э. (Болелов 2013: 6). Технология производства керамики здесь была напрямую связана с традициями гончарного производства южных областей Средней Азии и, прежде всего, с Маргианой. Об этом красноречиво свидетельствует конструкция обжигательного горна — самого раннего на территории Хорезма, а также использование гончарного круга быстрого вращения, не известного ранее в низовьях р. Амударьи. По всей видимости, этот центр возник при непосредственном участии мастеров-керамистов из южных областей и снабжал своей продукции обширную округу, центром которой возможно был Хазарасп, расположенный в 18 км к северо-западу от пос. Хумбуз-тепе, ниже по реке. По результатам исследований, которые были проведены на памятнике позднее отрядом Института археологии АН РУз, можно сделать вывод, что Хумбуз-тепе было многопрофильным ремесленным поселением. Так, к северу от раскопа 1997 г. открыта двухкамерная одноярусная производственная конструкция (печь), рядом с которой найдены фрагменты керамических сопл, использовавшихся, по-видимому, для принудительного нагнетания воздуха. Назначение этой конструкции осталось неясным (Баратов, Матрасулов 2003: 41—42). Учитывая наличие фрагментов сопл, можно предположить, что это какое-то производственное сооружение, связанное с металлообработкой, может быть кузнечный горн, в котором накалялись железные полуфабрикаты. Надо полагать, гончары работали на пос. Хумбуз-тепе постоянно. Об этом свидетельствует тот факт, что обжигательный горн расположен рядом с мастерской, где изготавливалась посуда. При этом мастерская была капитальной постройкой, в которой можно было работать в течение всего года. Это именно производственное помещение, а жилища гончаров располагались неподалеку. Но нельзя исключать и того, что какая-то часть помещений в жилой зоне была отведена под мастерские. Об этом, в частности, свидетельствуют находки подкладных дисков и фрагментов сформованных, но необожжённых сосудов в помещении.
Хумбуз-тепе не единственное поселение сер. I тыс. до н.э. в этом районе. В ходе маршрутных исследований в окрестностях памятника 1996—1997 гг. обнаружено ещё два поселения, которые по подъёмному материалу можно отнести к архаическому периоду (VI— IV вв. до н.э.). В 2 км выше по течению р. Амударьи — Караташ, в 3 км ниже по течению — Таш-Сака. На поселении Таш-Сака также отмечены следы керамического производства — куски шлака, бракованная керамика. Следов обжигательных горнов пока не зафиксировано (Мамбетуллаев, Абдиримов 2002: 167). По данным С.Р. Баратова, остатки гончарного производства фиксируются по берегу р. Амударьи в районе пос. Хумбуз-тепе на протяжении 8 км, что позволяет предполагать здесь грандиозный центр, функционировавший в период с VII по III в. до н.э. (Баратов, Матрасулов 2003: 38) и обслуживавший земледельческий оазис с центром на месте пос. Хазараспа.
Значительно лучше исследовано крупное многопрофильное ремесленное поселение периода античности Нурумское, расположенное на территории Присарыкамышской дельты. Оазис, занимавший в древности площадь 9—10 кв. км, расположен между двумя крупными широтными протоками, которые восточнее поселения выходят из Среднего Даудана, одного из русел Присарыкамышской дельты р. Амударьи. Основные разветвления магистральных каналов начинались в центральной части оазиса. Никаких построек в северной части освоенной территории, в зоне головных сооружений каналов, не отмечено. Нет их в западной части оазиса, где фиксируется разветвленная ирригационная сеть, базировавшаяся, по всей
№ 17. 2024
в эпоху античности видимости, на двух западных магистральных каналах. Если исключить зону головных сооружений в северной части оазиса, то площадь освоенной земли на Нурумском поселении была около 500 га (Болелов 2002b: 34—37). При этом жилой сектор, в центре оазиса, занимал площадь не более 1—1,5 кв. км. Вся западная его часть, площадью не менее 80—86 га, была занята полями, планировка которых достаточно хорошо видна на поверхности. Это были участки площадью от 0,16 до 0,25 га, ограниченные арыками. Кроме того, в центральной части поселения, поблизости от усадеб, отмечены две агропланировки, которые можно трактовать как виноградники (рис. 3). В связи с этим, обращают на себя внимание шесть сырцовых сооружений ‒ глиняных стилобатов в юго-восточной части поселения. Высота этих прямоугольных в плане конструкций не превышает 1,5 м. На верхней площадке стилобатов зафиксированы многослойные алебастровые обмазки толщиной 1—1,5 см. Одно из этих сооружений было частично раскопано. В результате исследований установлено, что верхняя поверхность конструкции, покрытая алебастром, была наклонной. В пониженной части был сделан желобок, который на краю стилобата продолжался наклонным стоком, по которому жидкость, в данном случае, по всей видимости, виноградный сок, стекала в сосуд, который, надо полагать, был установлен у подножья стилобата. Сосуд не сохранился, но у стенки возвышения обнаружен вертикально стоящий плоский камень, который, возможно, поддерживал или фиксировал в нужном положение ёмкость, в которую стекал виноградный сок. Ещё одна винодавильня была раскопана в пределах усадьбы № 16. Она представляла собой выложенное из битой глины (пахсы) возвышение, верх которой был вымощен известняковыми плитами, которые, судя по незначительным по площади сохранившимся участкам, были обмазаны алебастром. Уровень пахсовой платформы понижается с юго-запада на северо-восток; в северовосточной части расчищен сток-желобок, обмазанный алебастром. Непосредственно под этим стоком, у подножья стилобата, было устроено небольшое возвышение с углублением в центре, на котором, по всей видимости, устанавливали сосуд, в который стекал виноградный сок.
Ранее одна винодавильня была раскопана на территории Аязкалинского поселения (Правобережный Хорезм). Это была немного приподнятая над уровнем такыра площадка (5 × 4 м), вымощенная обожженными глиняными плитками, ограниченная пахсовой стеной. Судя по всему, сок стекал в емкость — врытый в землю огромный хум, по наклонному желобу, выложенному обожженными плитками, скрепленными раствором алебастра (Неразик: 1976: 39). Неудовлетворительная сохранность упомянутых выше сооружений не позволяет более или менее достоверно реконструировать процесс отжимания сока. Конструкция у всех была примерно одинакова: приподнятая над дневной поверхностью площадка, вымощенная каменными или обожженными глиняными плитками, обмазанными алебастром с желобком-стоком, по которому отжатый сок поступал в емкость. Можно вполне уверенно говорить, что виноград в хорезмийских винодавильнях давили ногами. В данном случае вполне уместно провести параллель с винодавильнями хорошо известными в Северном Причерноморье, которые датируются первыми веками н.э. Разница состоит в том, что в Крыму, например, наряду с площадками, на которых давили виноград ногами, зачастую, в одном помещении были каменные прессы. Так, в винодавильне, раскопанной на территории надела 340 в сельской округе Херсонеса в одном помещении находилась давильная площадка с каменными прессом и две площадки, на которых давили виноград ногами (Ковалевская, Суханова 2008: 11—13). В Хорезме следов прессов, которые могли бы использовать в виноделии пока не обнаружено.
Около каждой винодавильни на Нурумском поселении зафиксировано не менее 10—12 вкопанных в землю больших хумов. Если принять за среднюю ёмкость хума 200 л, то только отдельные хранилища в центральной части Нурумского поселения могли вмещать 12— 15 тыс. л. вина (Вайнберг, Болелов: 1999: 56).
В пределах оазиса выявлено около 20-ти отдельно стоящих усадеб, сохранившихся до настоящего времени в виде оплывших всхолмлений (рис. 3). На поверхности некоторых из них достаточно отчётливо прослеживаются сырцовые стены. Площадь усадеб различна, но
№ 17. 2024
небольших домов среди них нет. Самые малые — 100 кв. м, а многие — от 250 кв. м и более. В северной части поселения выделяются три отдельных, расположенных близко друг к другу, небольших депе, которые, судя по высоте (не менее 3 м) и значительной площади, по сравнению с остальными постройками, были центральными усадьбами на поселении. Возможно, хозяева этих усадеб обладали более высоким социальным статусом, чем остальные жители поселения (Вайнберг 1991: 48).
В процессе исследований 1990—1991 гг. в пределах Нурумского поселения зафиксированы следы не менее 40 керамических обжигательных горнов. Всего частично или полностью раскопано девять объектов. Все они округлые в плане двухъярусные конструкции с прямой вертикальной тягой. Площадь топочной камеры в большинстве случаев почти в два раза меньше обжигательной камеры, диаметр которой не менее 4—4,5 м. Топка перекрывалась глиняным диском. Лишь в одном случае зафиксированы следы купольного перекрытия (Болелов 1991: 74). Около каждой усадьбы зафиксировано по два, а то и по четыре горна, развалы которых хорошо прослеживаются на поверхности такыра. Каждая пара включала в себя большой и маленький горны. Таким образом, отдельные усадьбы Нурумского поселения, в которых могла проживать двух-трёх поколенная малая семья, можно рассматривать как обособленные жилищно-производственные комплексы.
Один из таких комплексов (усадьба № 15) был практически полностью раскопан. Он включал в себя жилое здание, являвшееся на первом этапе местом обитания малой семьи. Площадь его во второй период жизни здания, видимо, по мере увеличения домочадцев, увеличивается почти вдвое. В таком доме могли жить уже 7—10 человек. В юго-восточной части усадьбы открыт частично перекрытый навесом двор, где в крытой его части жители усадьбы занимались какой-то производственной деятельностью (рис. 4: А ). Здесь, около западной стены, обнаружены два очажных устройства, которые можно интерпретировать как нижние части кузнечных горнов (Болелов 2005: 90—110). В 20 м к юго-западу от усадьбы раскопано два обжигательных горна — большой и малый, в 100 м, также к юго-западу от жилой постройки, ещё два обжигательных горна. Между этими двумя парами горнов зафиксированы следы двухкомнатной, трапециевидной в плане, вероятно, хозяйственной постройки (рис. 4: Б ). Не исключено, что эта постройка располагалась на земельном участке, относящемся к усадьбе № 15, на котором располагались и обжигательные горны (Болелов 1991: 72—90; Вайнберг, Болелов: 1999: 48). На основании этого можно предположить, что к каждой усадьбе на Нурумском поселении относился прилегающий к жилому дому участок, на котором были расположены хозяйственные постройки и обжигательные горны. По данным Е.Е. Неразик, на Джанбаскалинском поселении в Правобережном Хорезме во владение одного домохозяйства входили земельный надел, виноградник и оросительное устройство (Неразик 1979: 43— 46). По законам Ману в Древней Индии обрабатываемое поле, дом, пруд, сад причислялись к основным категориям собственности домовладельца (Бонгард-Левин 1973: 108). В ранних армянских источниках имение, усадьба, земельный надел, хозяйственный комплекс обозначается термином дастакерт . Есть все основания полагать, что это были частные наделы, так как в источниках этот термин, зачастую противостоит термину авак, который употреблялся для обозначения владений сельской общины, то есть коллективной собственности (Саркисян 1967: 97—101).
На территории Нурумского поселения отмечены скопления железных шлаков. Недалеко от двух усадеб зафиксированы развалы очажных конструкций, которые предварительно можно квалифицировать как развалы кузнечных горнов. Остатки двух кузнечных горнов обнаружены во дворе усадьбы № 15, которая была раскопана полностью (Болелов 2005: 101, рис. 4). Рядом с некоторыми усадьбами найдены бронзовые слитки, а также фрагменты круглой в сечении тонкой медной проволоки (диаметр не более 0,5 см), которая, по всей видимости, являлась полуфабрикатом для изготовления браслетов и серёг. Кроме того, на территории поселения
Ремесленные поселения на территории Южного Приаралья № 17. 2024 в эпоху античности найдено большое количество стеклянных шлаков, а также фрагментов стеклянных стержней, которые, вероятно, были заготовками для изготовления стеклянных бус (Вайнберг, Болелов 1999: 54).
Весьма примечательно, что в полностью раскопанной усадьбе № 15, к которой, судя по всему, относится четыре обжигательных горна, не обнаружено производственного помещения — мастерской. Этот факт даёт основание предположить, что посуда формовалась вне пределов усадьбы, может быть на улице. Высказанное предположение, отчасти, подтверждается данными, полученными в ходе раскопок горна № 5, рядом с которым была открыта производственная площадка, контуры её прослеживаются по сильно замытой кирпичной вымостке к западу от горна (рис. 4 А). Над площадкой был устроен лёгкий навес, о чём красноречиво свидетельствуют следы вертикальных стоек в виде столбовых ямок, вырубленных в кирпичной кладке. Рядом с рабочей площадкой расчищены три ямы, вырубленные в материковом грунте. Одна из них, самая большая, по всей видимости, изначально прямоугольная, была заполнена мусором, золой, керамикой и обломками бракованных сосудов, деформированных во время обжига. Глубина двух других, прямоугольных в плане ям — 0,8 см. Эти ямы заполнены чистым надувным лёссом. На краю одной из них in situ обнаружены остатки (нижняя часть) двух вкопанных в землю хумов, в которых, возможно, хранилась вода. Обе ямы расположены в непосредственной близости от вымощенной сырцовым кирпичом площадки рабочей площадки, а хумы, судя по всему, были вкопаны под навесом (рис. 4 А). Ещё два хума были вкопаны на краю ямы, заполненной мусором. Совершенно очевидно, что мусорной она стала на последнем этапе функционирования горна. К северу от горна расчищены два очага, а рядом с ними — неглубокая прямоугольная яма, заполненная пережжённым порошкообразным гипсом (рис. 4 А).
Надо полагать, в ямах замешивалась и вылёживалась глина, в которую здесь же добавляли примеси. Затем под навесом глину месили и здесь же готовили формовочную массу. Весьма вероятно, что под навесом формовалась и посуда, может быть крупные тарные сосуды. Во всяком случае, во время раскопок были найдены крупные фрагменты рёбер крупного рогатого скота с более или менее выраженным рабочим краем, которые могли использоваться в процессе подправки на круге крупных сосудов. В связи с этим следует заметить, что горн № 5 в процессе эксплуатации претерпел некоторую реконструкцию, в результате которой изменились его производственные функции. По всей видимости, после обрушения свода топочной камеры в центральной части обжигательной камеры был оставлен большой продух. В результате чего, надо полагать, изменился режим обжига и в горне, скорее всего, преимущественно обжигали крупные сосуды: хумы, хумчи, крупные горшки и кувшины (Болелов 2002a: 93— 94). Учитывая эти данные, можно предполагать, что на производственной площадке около горна могла формоваться глиняная посуда, но это происходило в тёплое время года. Здесь же, под навесом, она и сушилась, что также могло происходить только в тёплое время года. По данным этнографии, производство керамики, в основном, было сосредоточено в закрытых помещениях-мастерских. В тоже время, специально изучавший гончарное ремесло Хивы И.М. Джаббаров подчеркивал, что глину засыпают в специальную яму, вырытую во дворе, а затем тщательно размешивают (Джаббаров 1959: 338). Не исключено, что также на свежем воздухе выполнялись и некоторые технологические операции в процессе формовки сосуда. Схожая ситуация, как можно предполагать на основании полученных археологических данных, фиксируется в древности и в других гончарных производствах и мастерских. В Хазараспе, рядом с разрушенным горном, раскопано две ямы, рядом с ними кирпичные вымостки (Воробьева и др. 1963: 119, рис. 9). На городище Кюзели-гыр, неподалеку от очень плохо сохранившейся, сильно замытой, кирпичной вымостки сохранился участок поверхности, на котором лежала пластичная промышленная глина, вероятно уже приготовленная к работе. Следует подчеркнуть, что глина была найдена недалеко от отдельно расположенного помещения мастерской, где на полу обнаружена заготовка керамического сосуда. Эти факты достаточно убедительно
№ 17. 2024
показывают, что глина месилась на открытом воздухе, а сосуды формовались в помещении мастерской (Воробьева 1959: 200, рис. 45).
Принимая во внимание эти обстоятельства, можно предположить, что гончары, живущие в Нурумском поселении, занимались изготовлением керамики не постоянно, а только в определённое время года (летом или осенью), когда спрос на глиняную посуду был особенно высок во время сбора урожая. То есть, несмотря на то, что ремесленники жили здесь постоянно, гончарное производство на Нурумском поселении было сезонным. Хотя выявлено обилие обжигательных горнов, этот памятник нельзя считать узко специализированным гончарным ремесленным поселением. Наличие остатков других высокотехнологичных ремесленных производств даёт основание квалифицировать его как многопрофильное торгово-ремесленное поселение, хотя керамическое производство, судя по всему, преобладало. В то же время немалую роль в хозяйстве не только всего поселения, но и отдельных семей, играло земледелие, виноделие и другие ремёсла.
На территории древней Сырдарьинской дельты в достаточной степени изучено одно ремесленное поселение — Бабиш мола 7, расположенное в 5 км к ЮЮВ от городища Бабиш мола 1, которое было, по всей видимости, административным центром области, во всяком случае, на первом этапе существования памятника (рис. 5). Поселение впервые было обследовано археолого-топографическим отрядом Хорезмской археолого-этнографической экспедиции под руководством Б.В. Андрианова (Андрианов 1969: 194, рис. 53; Толстов 1962: 156)2. Общая площадь поселения составляет приблизительно 1.6 га — 450 × 350 м. С запада к поселению был подведён канал-водохранилище шириной 15 м (рис. 6).
Максимальная концентрация предполагаемых построек и развалов горнов фиксируется в южной части поселения, куда и был подведён канал-водохранилище. Обжигательные горны располагались как отдельно, на некотором удалении от предполагаемых построек, так и рядом с ними. Всего в настоящее время в ходе визуального обследования территории поселения выявлены следы 11-ти обжигательных горнов, но, несомненно, их было больше. Всего на поселении полностью раскопано семь обжигательных горнов. По конструктивным признакам выделяются два типа специальных обжиговых устройств — горнов: крупные прямоугольные в плане горны с плоским перекрытием прямоугольной или овальной топочной камерой и горны с прямоугольной или овальной в плане топочной камерой, перекрытой поставленными под углом друг к другу прямоугольными сырцовыми кирпичами (стрельчатое перекрытие) и округлой в плане обжигательной камерой.
В южной части поселения зафиксировано семь предполагаемых построек, которые могли быть как небольшими жилыми домами, так и мастерскими. В северо-западной части поселения на берегу сухого русла (расстояние до берега 50—60 м) находилась довольно крупная усадьба. На поверхности чётко видны контуры стен помещений, сложенных из прямоугольного сырцового кирпича на пахсовом основании.
На территории поселения практически полностью раскопан жилищнопроизводственный комплекс (мастерская № 1), который включал в себя два обжигательных горна, производственные и жилые помещения (рис. 7) (Утубаев, Болелов 2016: 56— 62; Болелов, Утубаев 2020: 67—87). Два прямоугольных в плане обжигательных горна располагались вплотную друг к другу в северо-восточной части комплекса. Немного южнее горнов расчищена ещё одна производственная конструкция, от которой сохранилась только нижняя часть овальной в плане топочной камеры. Эта конструкция, по всей видимости, также связана с производством (рис. 7).
Ремесленные поселения на территории Южного Приаралья № 17. 2024 в эпоху античности
Надо полагать, весь технологический процесс изготовления посуды проходил в закрытых помещениях, расположенных практически вплотную друг к другу, к югу от горнов. В этой части жилищно-производственного комплекса хорошо выделяется производственный блок, который был отделён от жилой части коридором (рис. 7). К нему относится помещение № 1, в котором формовалась посуда. Здесь найдены фрагменты сформованных, но необожжённых сосудов, нижняя часть стационарно установленного хума, заполненного пластичной глиной. В этом же помещении найдено два каменных предмета — округлые обточенные камни (среднезернистый и мелкозернистый песчаник серого цвета на цементном растворе), с чётко выраженным углублением в центре и следами сработанности на верхней поверхности (Утубаев, Болелов 2016: 60—61), которые можно трактовать как нижние части небольших жерновов, использовавшиеся для растирания минеральных красителей при изготовлении ангобной массы. С другой стороны, нельзя исключать и того, что эти камни были подпятниками гончарного круга или нижними частями поворотной подставки (однодисковый гончарный круг). К югу от этого помещения расположено небольшое помещение № 2 — по всей видимости, подсобное, в северо-западном углу которого обнаружен стационарно установленный хум, вкопанный в материковый грунт до горловины. В этом помещении посуда могла сушиться в холодное время года. Здесь же найден фрагмент ещё одного жернова или, может быть, зернотёрки, одна плоскость которой была хорошо заглажена, почти отполирована, надо думать, в процессе использования. Так же в слое на полу помещения № 2 найдено несколько каменных предметов, которые с полным основанием можно считать производственными. Это небольшие гальки овальной или округлой формы с хорошо выраженными рабочими поверхностями. Чаще всего один или два края сильно уплощены, попросту говоря, сработаны. Среди них обращает на себя внимание небольшой хорошо обточенный камень (мелкозернистый песчаник светло-серого цвета) в форме усечённой призмы. С уверенностью можно говорить, что все эти небольшие камни использовались в качестве лощил, с помощью которых до обжига заглаживалась и залащивалась внешняя поверхность сосудов. К востоку от этих двух помещений, которые с полным основанием можно считать мастерской, почти полностью раскопан открытый двор, в пределах которого обнаружены два стационарно установленных, вкопанных в материковый грунт хума. Около них у западной стены двора между хумами, непосредственно на уровне пола, зафиксирована вымостка из прямоугольного сырцового кирпича, шириной около 70 см, которая вполне могла быть площадкой, где сушилась готовая посуда перед обжигом. В восточной части двора расчищен сравнительно большой овальный в плане напольный очаг (1,8 × 0,9—1 м) явно производственного назначения, обложенный по периметру сырцовыми кирпичами, поставленными на ребро. Возможно, это устройство использовалось для пережигания кристаллического гипса. Довольно крупные кристаллы этого минерала найдены в заполнении помещений мастерской.
Жилые помещения открыты в западной части комплекса. В них были обнаружены бытовые и, возможно, кухонные очаги (рис. 7). Никаких артефактов, свидетельствующих о производственной деятельности в западной части комплекса, не найдено.
К югу от мастерской № 1 частично открыт ещё один производственный комплекс (мастерская № 2), который, как можно предполагать, являлся частью крупной усадьбы. Здесь полностью раскопано два обжигательных горна. От одного из них осталась только нижняя часть топочной камеры. Второй горн сохранился значительно лучше. Это была обжиговая конструкция с овальной в плане топочной камерой и прямоугольной в плане камерой обжига. Рядом с горнами, практически вплотную к ним, с южной стороны открыта часть, по всей видимости, прямоугольного или квадратного помещения, а к юго-востоку от него юго-западная часть ещё одного помещения (рис. 7: Б ). Точно размеры этих помещений установить не удалось, так как стены смыты почти до основания. Можно предположить, что так же, как и в мастерской № 1, они были производственными. К юго-западу от горнов частично открыто несколько
№ 17. 2024
помещений, которые были, вероятно, жилыми. Два помещения раскопаны полностью. В одном из них (пом. № 1), почти квадратном в плане (4 × 5,4 м), в центре располагался большой, овальный в плане, напольный очаг (рис. 7: Б). Заметим, что аналогичная ситуация зафиксирована в одном из помещений жилой зоны (пом. № 4) в мастерской № 1 (рис. 7). К западу от пом. № 1, в западной части мастерской № 2, открыто ещё одно почти квадратное в плане (4 × 3,5 м) помещение № 2, в северо-западном углу которого, по всей видимости, стоял крупный тарный сосуд — хум. Здесь на уровне пола расчищена кольцевая выкладка из сырцовых кирпичей диаметром около 1 м, при помощи которой дополнительно укреплялась нижняя часть стоящего сосуда. К северу от этих помещений на поверхности прослеживаются контуры стен, что даёт основание предполагать, что здание было многокомнатным. К югу и к западу от вскрытых помещений зафиксировано большое количество хозяйственных (?) ям, вырубленных в материковом грунте. Какой-либо системы в их расположении, в общем, не прослеживается. Не исключено, что какая-то их часть относится к более позднему периоду. К югу от раскопанных помещений зафиксирована система столбовых ямок, расположение которых даёт основание предполагать, что здесь были лёгкие наземные каркасные постройки (рис. 7: Б ). Возможно, они относятся к более позднему периоду, когда горны уже не функционировали. В связи с этим можно вспомнить, что в мастерской № 1 в помещении №5 зафиксированы следы позднего каркасного жилища, которое было построено уже после того как, гончарное производство здесь перестало функционировать (Курманкулов и др. 2021: 124—125). Мастерская № 2 ещё не раскопана полностью, но уже сейчас можно говорить, что по размерам она была несколько больше, чем мастерская № 1. Возможно, и по производственной мощности она была больше. В нескольких десятков метров к юго-востоку от производственной зоны мастерской № 2 раскопан ещё один обжигательный горн, который, возможно, относился к этому же производственному комплексу.
В результате анализа планиграфической ситуации, которая зафиксирована в жилищнопроизводственных комплексах, раскопанных на поселении, прослеживается определённая закономерность. Обжигательные горны располагались в северо-восточной части комплекса. С юга и с юго-востока к ним примыкали производственные помещения. Жилой комплекс находился в западной или юго-западной части. Причём, как в первом, так и во втором комплексе в пределах жилой зоны открыты помещения со сравнительно большими прямоугольными в плане очагами в центре, которые, не исключено, в какой-то степени связаны с культом огня. На основании данных, полученных в ходе раскопок поселения Бабиш мола 7, можно с определённой долей уверенности говорить о том, что гончарные мастерские работали здесь постоянно, причём, учитывая отсутствие здесь следов каких-либо других ремесленных производств, а также следов сельскохозяйственных угодий в ближайшей округе, производство глиняной посуды было основным занятием жителей поселения.
Особое внимание обращает на себя внимание усадьба на северо-западной окраине поселения, расположенная на берегу руслового протока р. Жаныдарьи на расстоянии 600—700 м от обжигательных горнов и мастерских в центральной части поселения. В настоящее время исследована только часть усадьбы. По всей видимости, это меньше половины всей площади здания, остальные помещения (северо-западная часть здания), надо полагать, находятся под большим неподвижным барханом. По сути, это пока единственная сельская усадьба чирик-рабадской культуры, где, пусть в небольшом объёме, удалось выявить строительные конструкции удовлетворительной сохранности и отдельные элементы планировки. Усадьбы, раскопанные на поселении Баланды, практически полностью смыты и, по сути, ничего не дают для понимания планировочной схемы построек (Курманкулов и др. 2021: 44—46). В тоже время, по результатам раскопок усадьбы на поселении Бабиш мола 7 можно составить представление о строительных приёмах и технике, которая использовалась при возведении здания. Все стены, которые были возведены на пахсовом цоколе, сложены из прямоугольного сырцового кирпича (соотношение сторон — 2:3), который мог появиться на территории нижней Сырдарьи не позднее рубежа V—IV вв. до н.э. (Курманкулов и др. 2021: 52). Следует отметить, что на тех
№ 17. 2024
в эпоху античности участках стен, где сохранилась кирпичная кладка, ряды кирпича были положены на глиняный раствор «вперевязку», что свидетельствует о довольно высоком уровне строительной техники.
То, что усадьба на поселении Бабиш мола 7 была крупным многокомнатным зданием, не вызывает сомнения. Площадь шести раскопанных помещений, с учётом того, что некоторые из них вскрыты не полностью, была не менее 200 кв. м (рис. 8). Принимая во внимание то, что открыто меньше половины здания, можно предположить, что общая его площадь, не считая дворов, была не менее 500—600 кв. м, а возможно и больше. Таким образом, если наши предположения верны, то усадьбу на поселении Баланды вполне можно сравнить с крупными и средними сельскими усадьбами античного Хорезма3. Так, например, площадь жилого дома усадьбы № 3 в Аязкалинском поселении, ранний слой которого датируется IV— III вв. до н.э., была немногим более 600 кв. м (18 × 34 м). Площадь жилых помещений — 340 кв. м (Неразик 1976: 40—43). Планировка усадьбы на поселении Бабиш мола 7 полностью не выявлена, по этой причине нам трудно отнести её к какому-либо типу сельского жилища периода античности, известного в Хорезме. Осторожно можно предполагать, что это четвертый тип домов, выделенный Е.Е. Неразик, в котором чередуются крупные и мелкие помещения, расположенные в несколько рядов (Неразик 1976: 159).
На территории Южного Приаралья по объёму производимой продукции и месту расположения относительно населённых пунктов и, соответственно, по системе организации выделяется несколько типов гончарных ремесленных производств: небольшие гончарные мастерские на территории поселений, специализированные производственные центры за пределами поселений, крупные производственные центры и ремесленные поселения (Болелов 2021: 170—175). Ремесленные поселения по объёму производства значительно превосходят все перечисленные выше. Они не однородны по своей структуре и, видимо, каждое из них занимало определённое место в социально-экономической структуре области. По объёму производимой продукции их вполне можно сопоставить с крупными специализированными производственными центрами. В этом ряду по размерам селитебной площади и объёмам производства явно выделяется Нурумское поселение в Левобережном Хорезме, которое, как кажется, вполне можно рассматривать как хозяйственно-экономический центр этого района Присарыкамышской дельты. По всем признакам это было торговоремесленное поселение, причём, судя по размерам занятой под посевы земли, обладавшее и внушительным сельскохозяйственным потенциалом. Это предположение подтверждается наличием в оазисе, помимо крупномасштабного гончарного производства, остатков других ремесленных производств, а также крупного винодельческого производства.
Такие поселения — «базары», где был дом правителя — хакима, ремесленные производства и торговые лавки, существовали в Хорезме во времена Хивинского ханства. «Базары» обычно являлись административными центрами сельскохозяйственных районов. Николай Муравьев, описывая торговые поселения Хивинского ханства, замечает, что они снабжали товарами все деревни и кочевья. Такое поселение (комплекс развалин у крепости Кзыл-кала в левобережном Хорезме) было обследовано Б.И. Вайнберг. Исследователь подчеркивает, что оно обслуживало не только туркмен, живших на близлежащих землях, но и кочевников-чарва из отдалённых районов. Возможно, создание таких поселений в позднефеодальном Хивинском ханстве происходило не без участия центральной власти. Можно предполагать, что это было вызвано не только и не столько экономическими, сколько политическими соображениями (Вайнберг 1960: 127). В связи с этим обращает на
№ 17. 2024
себя внимание наличие на Нурумском поселении трёх центральных бугров, значительно отличающихся от остальных усадеб своими размерами (рис. 4: Б ). Вполне возможно, эти здания и являлись административным центром поселения — домом правителя. Учитывая это, кажется весьма вероятным, что и Нурумское поселение возникло на северо-западной окраине Хорезма не только по экономическим причинам, но и по политическим соображениям. Поселение расположено на северо-западной окраине ирригационной зоны Левобережного Хорезма. В 10—15 км от него находятся курганные могильники скотоводческого населения: Тарым-кая, Гяур 4, Туз-гыр, Тумек-Кичиджик, Шах-Сенем-гыр. Видимо, северо-западные границы Хорезма можно рассматривать как фронтир (контактную зону), где группы скотоводов соприкасались и взаимодействовали с земледельцами оазиса. Обращает на себя внимание и тот факт, что поблизости с Нурумским поселением в первые века н.э. функционировали крупные специализированные производственные центры: Гяуркалинский производственный центр и крупное гончарное производство в окрестностях поселения Туз-гыр, которые, по объёму изготовлявшейся продукции сопоставимы с ремесленным поселением. В отличие от торговоремесленных поселений, они специализировались исключительно на изготовлении керамики (Болелов 2021: 168). По-видимому, здесь, так же, как и в более мелких производственных центрах, мастера работали не круглый год, а периодически, во время сезона, приезжая сюда из мест постоянного проживания. Большие масштабы производства можно объяснить обширным рынком сбыта, рассчитанным на скотоводческое население северо-западных окраин Хорезма. Примечательно, что Гяур-калинский производственный центр располагался рядом с двумя крепостями — Гяур-кала I и Гяур-кала II, т.е., находился под их защитой. Две эти крепости, несомненно, связаны с ирригационной системой Чермен-Яба. Период её расцвета, по мнению Б.В. Андрианова, приходится на третью фазу функционирования канала (первые века н.э.), когда было создано основное магистральное русло (Андрианов 1969: 160—161). Вполне логично было бы предположить, что две эти крепости возникли в зоне орошения при активном участии государства (Вайнберг 1991: 68). Нельзя исключать того, что производственный керамический центр возле двух этих крепостей также возник не без участия центральной власти.
Учитывая эти данные, возможно, поставить вопрос о проводимой Хорезмийским государством протекционистской политике в отношении кочевников на границах области. Северные районы Присарыкамышской дельты, также как и западные районы Приаральской дельты, являлись традиционными местами зимовок кочевников Устюрта, о чём свидетельствуют многочисленные курганные могильники на юго-восточном чинке плато (Ягодин 2008: 118; Ягодин и др. 2017: 379). Скотоводческое население с ограниченным циклом перекочёвок населяло западную часть Присарыамышской дельты (Вайнберг 1981: 125), где и было расположено Нурумское поселение, а также крупные производственные центры Гяур и Тузгырское поселение. Надо полагать, именно для этих групп скотоводов и предназначалась гончарная посуда и другие ремесленные изделия, которые производились на Нурумском поселении и в гончарных центрах. Стабильная ситуация на границах оазиса обеспечивалась взаимовыгодными экономическими отношениями с кочевым населением. Ремесленное производство размещалось в непосредственной близости к потребителю (Вайнберг 1979: 175). Косвенно это предположение подтверждается ещё и тем, что на территории Правобережного Хорезма, где курганных могильников нет, крупные производственные центры и торгово-ремесленные поселения неизвестны. Здесь функционировали многочисленные производственные центры, располагавшиеся на берегу каналов и обеспечивавшие своей продукцией земледельческие поселения в определённое время года. Это были не постоянные, сезонные гончарные производства.
Надо полагать, несколько другие функции в социально-экономической структуре области были у ремесленного поселения Бабиш мола 7. В отличие от Нурумского поселения,
№ 17. 2024
в эпоху античности оно располагалось в центре крупного земледельческого оазиса, в 5 км от укреплённого центра этого района городища Бабиш мола 1. Как уже отмечалось выше, никаких следов других ремёсел, так же как и следов земледелия, в пределах поселения не отмечено. Здесь изготавливали только керамику и основными потребителями продукции этого центра были жители земледельческого оазиса. По функциональному назначению это ремесленное поселение в определённой степени сходно с гончарными кварталами южных областей Средней Азии. Разница состоит лишь в том, что на юге они размещались в пределах городских стен, а в низовьях р. Сырдарьи производство было вынесено за пределы города. На поселении Бабиш мола 7 обращает на себя внимание крупная усадьба, рядом с которой не выявлено следов производства и находящаяся на некотором удалении от мастерских. Вполне возможно, что в ней проживал глава или управляющий этим ремесленным поселением. В данном случае уместно провести параллель организацией наделения землёй в Ахеменидском Иране позднего периода, где наделы земли с обязательством нести военную службу или гражданские повинности — ilku предоставлялись государством не только воинам, но и коллективам ремесленников (Дандамаев 2010: 69). Такая организация землепользования называлась хатру («округ», в одном из арамейских документов переведено в значении «земля»). Во главе такого округа стояли šaknu (начальники), которые собирали царские налоги и сдавали их в казну (Дандамаев 2013: 106—107). Непосредственно к поселению и, несомненно, для производственных нужд гончаров, из русла р. Жанадарьи был выведен канал-водохранилище. Надо полагать, для его строительства были привлечены дополнительные людские ресурсы, не исключено, что не без участия центральных властей области. Принимая во внимание эти соображения, можно предположить, что ремесленное поселение Бабиш мола 7 возникло с ведома властей и работа его, возможно, контролировалась их представителем, который и проживал в крупной усадьбе в пределах оазиса.
Имеющиеся в настоящее время материалы по ремесленному гончарному производству на территории Южного Приаралья дают основания полагать, что в последней трети I тыс. до н.э. — начале I тыс. н.э. на этой территории существовали различные формы ремесла. Они характеризуются различным уровнем организации, технологическими возможностями производства, а также различной степенью отделения ремесла от земледелия. Все эти формы существовали одновременно, дополняя друг друга, занимая свое определённое место в экономической системе древнего общества. Организация и функционирование той или иной формы производства на определённой территории, в первую очередь, зависели от особенностей хозяйственно-культурного типа (ХКТ) в этом районе. Именно этим можно объяснить, например, отсутствие ремесленных поселений и крупных производственных центров в Правобережном Хорезме и наличие их в Левобережном Хорезме. По этой же причине, возможно, в низовьях р. Сырдарьи отсутствуют специализированные производственные центры. Плотность населения здесь была меньше, чем в Хорезме. Кроме того, на территории чирик-рабадской культуры пока не отмечено следов винодельческих хозяйств. По-видимому, ремесленники на поселении Бабиш мола 7 и небольшие гончарные мастерские в земледельческих общинах вполне обеспечивали население оазисов глиняной посудой.
Список литературы Ремесленные поселения на территории Южного Приаралья в эпоху античности
- Андрианов Б.В. 1969. Древние оросительные системы Приаралья (в связи с историей и развитием орошаемого земледелия). Москва: Наука.
- Баратов С., Матрасулов Ш. 2003. Археологические работы в южном Хорезме. Археологические работы в Узбекистане. 2002 год, 38—45.
- Болелов С.Б. 1991. Керамические обжигательные печи Нурумского поселения. Новые открытия в Приаралье 1, 72—90.
- Болелов С.Б. 2002a. Керамические обжигательные горны на территории южного и юго-восточного Приаралья (вторая половина I тыс. до н.э. — первые века н.э.). История материальной культуры Узбекистана 33, 85—95.
- Болелов С.Б. 2002b. Нурумское поселение в Левобережном Хорезме. В: Сулейманов Р.Х. (гл. ред.). Культурное наследие Средней Азии. Ташкент: Нац. ун-т Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 34—38.
- Болелов С.Б. 2004. К вопросу о периодизации раннего этапа истории Древнего Хорезма. В: Саидов А. (отв. ред.). TRANSOXIANA. История и культура. Ташкент: Институт «Открытое общество», 48—54.
- Болелов С.Б. 2005. Раскопки усадьбы в Нурумском оазисе (Северная Туркмения). ПИФК XV, 90—110.
- Болелов С.Б. 2013. Ранний этап становления ремесленного производства на территории Хорезма (вторая половина I тыс. до н.э.). В: Ягодин В.Н. (отв. ред). Приаралье на перекрестке культур. Самарканд: МИЦАИ, 5—19.
- Болелов С.Б. 2016. К вопросу о формировании ранней земледельческой культуры в низовьях Амударьи. SCRIPTAANTIQUA. Вопросы древней истории, филологии и искусства и материальной культуры V, 13—49.
- Болелов С.Б. 2019. Хумбуз-тепе. Производственный центр эпохи раннего железного века в Южном Хорезме (Археологические исследования 1996-1997 гг.). В: Балахванцев А.С., Маккавеев Н.А. (отв. ред.). Эпоха империй. Восточный Иран от Ахеменидов до Сасанидов: история, археология, культура. Москва: Институт Востоковедения РАН, 23—66.
- Болелов С.Б. 2021. Гончарные производства на территории Южного Приаралья (к вопросу об организации ремесленного производства в древности). Археологические вести 32, 157—178.
- Болелов С.Б., Утубаев Ж.Р. 2020. Гончарное производство на территории древней дельты Сырдарьи в эпоху античности: новые данные. Археология Казахстана (Қазақстан археологиясы) 1 (7), 67—87.
- Бонгард-Левин Г.М. 1973. Индия эпохи Маурьев. Москва: Институт Востоковедения АН СССР.
- Вайнберг Б.И. 1960. Туркменские поселения по Дарьялыку (по материалам Туркменского археолого-этнографического отряда 1957 г.). В: Толстов С.П., Итина М.А. (ред.). Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1957 году. Материалы Хорезмской экспедиции, вып. 4. Москва: АН СССР, 115—133.
- Вайнберг Б.И. 1979. Памятники Куюсайской культуры. В: Итина М.А. (отв. ред.). Кочевники на границах Хорезма. Труды ХАЭЭ. Т. XI. Москва: Наука, 7—76.
- Вайнберг Б.И. 1981. Скотоводческие племена в Древнем Хорезме. В: Итина М.А. (ред.). Культура и искусство Древнего Хорезма. Москва: Наука, 121—130.
- Вайнберг Б.И. 1991. Изучение памятников Присаракамышской дельты в 70-е — 80-е годы. В:
- Вайнберг Б.И. (отв. ред.). Скотоводы и земледельцы левобережного Хорезма (древность и средневековье) I. Москва: Институт этнологии и антропологии РАН, 5—108.
- Вайнберг Б.И., Болелов С.Б. 1999. Нурумский оазис на западе Хорезма. Культурные ценности 3, 46—61.
- Вайнберг Б.И., Левина Л.М. 1993. Чирикрабатская культура. В: Трудновская С.А. (отв. ред). Низовья Сырдарьи в древности. Вып. 1. Москва: Институт этнологии и антропологии РАН.
- Воробьева М.Г. 1959. Керамика Хорезма античного периода. В: Толстов С.П., Воробьева М.Г. (отв. ред.). Керамика Хорезма. Труды ХАЭЭ. Т. IV. Москва: АН СССР, 63—220.
- Воробьева М.Г. 1973. Дингильдже. Усадьба I тыс. до н.э. в Древнем Хорезме. Москва: Наука.
- Воробьева и др. 1963: Воробьева М.Г., Лапиров-Скобло М.С., Неразик Е.Е. 1963. Археологические работы в Хазараспе в 1958—1960 гг. В: Толстов С.П., Виноградов А.В. (отв. ред.) Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958—1961 гг. Памятники первобытного и античного времени. МХЭ. Вып. 6. I. Москва: АН СССР, 141—156.
- Дандамаев М.А. 2010. Вавилония в 626—330 годы до н.э.: социальная структура и этнические отношения. Санкт-Петербург: Петербургское лингвистическое общество.
- Дандамаев М.А. 2013. Ахеменидская империя. Социально-административное устройство и культурные достижения. Санкт-Петербург: Петербургское лингвистическое общество.
- Джаббаров И.М. 1959. Новые материалы к истории гончарного ремесла Хорезма. В: Толстов С.П., Воробьева М.Г. (отв. ред.). Керамика Хорезма. Труды ХАЭЭ. Т. IV. Москва: АН СССР, 379—396.
- Итина М.А., Яблонский Л.Т. 1997. Саки нижней Сырдарьи (по материалам могильника Южный Тагискен). Москва: РОССПЕН.
- Ковалевская Л.А, Суханова И.Ю. 2008. Винодавильня римского времени на хоре Херсонеса Таврического. МАИАСП 1, 11—14
- Курманкулов и др. 2021: Курманкулов Ж., Болелов С.Б., Утубаев Ж.Р. 2021. Древние земледельцы низовьев Сырдарьи. Алматы: ИА КН МНВО РК.
- Мамбетуллаев М. 1984. Хумбуз-тепе — керамический центр южного Хорезма. В: Куркчи А.И. (общ. ред.). Археология Приаралья. Вып. II. Ташкент: Фан, 21—38.
- Мамбетуллаев М., Юсупов Н. 1974. Археологические работы в Хорезмской области. В: Рыбаков Б.А. (отв. ред.) Археологические открытия-1973. Москва: Наука, 483.
- Мамбетуллаев М., Абдиримов Р. 2002. Исследования Хазараспа. В: Сулейманов Р.Х (гл. ред.) Культурное наследие Средней Азии. Ташкент: Нац. ун-т Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 165—167.
- Неразик Е.Е. 1976. Сельское жилище в Хорезме (I—XIV вв.). Труды ХАЭЭ. Т. IX. Москва: Наука.
- Неразик Е.Е. 1979. Материалы по землепользованию и землевладению в Хорезме первых веков н.э. В:
- Виноградов А.В. , Воробьёва М.Г. , Итина М.А. , Левина Л.М. , Неразик Е.Е. , Рапопорт Ю.А. (ред.). Этнография и археология Средней Азии. Москва: Наука, 42—46.
- Сагдуллаев А.С. 1982. Заметки о раннем железном веке Средней Азии. СА 2, 229—234.
- Сагдуллаев А.С. 1987. Памятники материальной культуры южного Согда эпохи раннего железа. В: Хидоятов Г.А. (ред.). Культура юга Узбекистана в древности и средневековье. Ташкент: Ташкентский Гос. ун-т им. В.И. Ленина, 3—15.
- Сарианиди В.И. 1957. Керамические печи древней Маргианы. КСИИМК 69, 72—77.
- Саркисян Г.Х. 1967. О двух значениях термина дасткерт в ранних армянских источниках. В: Струве В.В., Старкова К.Б., Лундин А.Г. (ред.). Эллинистический Ближний Восток, Византия и Иран. Москва: Наука, 97—101.
- Утубаев Ж.Р., Болелов С.Б. 2016. Новые археологические открытия в низовьях Сырдарьи. Вестник КемГУ. История и археология. Психология. Филология 1 (65), 56—62.
- Ягодин В.Н. 2008 Кочевники и Хорезм в Приаральском микрорайоне в IV—III вв. до н.э. — IV—V вв. н.э. Археология Приаралья VII, 116—124.
- Ягодин и др. 2017: Ягодин В.Н., Китов Е.П., Ягодин В.В. 2017. Типология погребальных комплексов могильника Кызыбаба I во II—IV вв. н.э. (к вопросу о происхождении кочевников юго-восточного Устюрта). Stratum plus 4, 357—379.