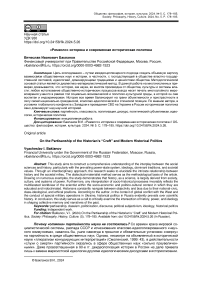«Ремесло» историка и современная историческая политика
Автор: Бакланов В.И.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - путем междисциплинарного подхода создать объемную картину взаимосвязи общественных наук и истории, в частности, с господствующей в обществе властно-государственной системой, идеологией, доминирующими традициями и ценностями общества. Методологической основой статьи является диалектико-материалистический метод. В данной работе на многочисленных примерах доказывается, что: история, как наука, во многом производна от общества, культуры и системы власти; любое истолкование общественно-исторических процессов всегда несет печать многослойного мировоззрения ученого в рамках той социально-экономической и политико-культурной среды, в которой он сам воспитан и индокринирован. Историк все время балансирует на грани объективности и пристрастности в силу своей национально-гражданской, классово-идеологической и этической позиции. По мнению автора, в условиях глобального конфликта с Западом и проведения СВО на Украине в России историческая политика явно доминирует над научной историей.
Партийность, классовость, политизация, дискурс, политический субъективизм, идеология, историческая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/149145914
IDR: 149145914 | УДК: 930 | DOI: 10.24158/fik.2024.5.26
Текст научной статьи «Ремесло» историка и современная историческая политика
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
Почему «отмена» партийности науки не состоялась? Со времен краха мировой социалистической системы, распада СССР и исчезновения классово-идеологизированного «научного коммунизма», казалось бы, ушли навсегда в прошлое и обязательные установки «сверху» на партийность в среде общественных наук. Однако, несмотря на объявленный в исторической науке «плюрализм конкурирующих интерпретаций» (Смоленский, 1999: 43), в действительности «слухи о смерти» партийности оказались в сфере общественных наук «сильно преувеличенными». Даже провозглашенная в 90-е гг. деидеологизация истории в России на деле привела лишь к замене марксистской идеологии другими идеологическими дискурсами в историописании.
Почему? Любое подвластное общество не может обходиться без идеологии. Вопрос лишь в том, как идеология работает в стране: прямолинейно и жестко, как во времена СССР, или более мягко и изощренно, как в 90-е гг. XX в.
Ведь именно в 90-е гг., в связи с торжеством капиталистического рынка в обществе и либерального дискурса – в общественных науках и истории в частности, вдруг всюду возобладала либерально-идеологическая канва (не без влияния известного фонда Сороса) в историописании событий прошлого России. Особенно это касалось советского периода, который многие отечественные исследователи тогда описывали преимущественно в негативных тонах, утверждая, что он – отклонение от «общечеловеческой магистрали», сосредоточие «бесчеловечного тоталитаризма», массовых репрессий и что весь «советский маршрут – это историческая катастрофа»1. Зато западные цивилизационные формы государственности и либерально-рыночные ценности открыто провозглашались в качестве безальтернативных для новой России.
Затем уже в первые десятилетия XXI в., со сменой политического режима, в официальной пропаганде возобладал консервативно-охранительный тон, что сразу же сказалось и на общем историко-научном исследовательском тренде. Он стал идеологически нагружен неким поиском «особого пути» России (с обязательной патерналистской связкой «власти и народа») (Дубин, 2018: 243–276) и ее принципиально цивилизационных различий от Запада и западного исторического пути (Васильченко, 2023). Значит, идеология никуда не ушла из сферы общественных наук, а просто меняла свой господствующий дискурс в зависимости от смены социально-экономического и политического ландшафта. Поочередное доминирование и конкуренция двух идеологий в постсоветский период (либеральной, а затем и консервативно-патриотической) отразилось самым решительным образом и в сфере общественных наук, и особенно истории. Стоит также сказать, что подобное существует во всех странах мира. Везде мы наблюдаем в большей или меньшей степени взаимосвязь и взаимообусловленность общественной науки с властно-государственной системой. А последняя, в свою очередь, зависит от соотношения классовых сил в стране, что выражается в сущностных особенностях того или иного политического режима.
О причинах партийности истории и общественных наук . Как известно, материалистический принцип осмысления и понимания действительности исходит из признания постулата: общественное бытие определяет сознание. То есть, другими словами, вся совокупная социально-экономическая практика определяет все формы общественного сознания, включая и научное изучение действительности, в частности, это касается всех общественных наук, а также истории. Большая советская энциклопедия дает следующее определение партийности: 1) «принадлежность человека к политической партии; 2) идейная направленность мировоззрения, философии, общественных наук, литературы и искусства, выражающая интересы определенных классов, социальных групп и проявляющаяся как в социальных тенденциях научного и художественного творчества, так и в личных позициях ученого, философа, писателя, художника»2. Разумеется, все вышесказанное целиком относится к истории. Здесь, по выражению Б. Могильницкого, «партийность не является неким “идеологическим привеском” к историческому познанию, а составляет в классовом обществе его необходимую предпосылку, оказывая самое непосредственное влияние на его результаты»3.
В истории всех классовых обществ классово-идеологическая борьба шла как в идейно-политической, религиозной, так и в философско-художественной сфере. Наконец, с эпохи Нового времени эта борьба стала проявлять себя и в сфере науки (особенно в общественных науках, включая историю). С тех пор мало что изменилось. Эта классово-идеологическая борьба, став более изощренной и многообразной, и сегодня ведется в мире социальной науки.
Ученые-обществоведы, историки, журналисты, блогеры и все массмедийные фигуры, чье мнение так значимо в обществе, формируют общественное мнение в стране и неизбежно идейнополитически ангажированы той социальной реальностью (обществом как заказчиком), в которой они живут, думают и пишут. Они сознательно или бессознательно описывают, объясняют либо оправдывают (что чаще всего), либо отрицают (что намного реже) существующий социально-экономический порядок. Сегодня же мы наблюдаем господствующий капиталистический порядок во всех странах мира. Разница лишь в культуре и режимах политического правления той или иной страны.
Любой крупный историк-исследователь, находясь на общественной службе своего капиталистического государства, которое есть классовое, по сути (и оно везде таковое – от США до
России и даже «социалистического» Китая), несмотря на все стремление к объективности в описании исторических фактов, неизбежно будет находиться в плену доминирующего сегодня (и везде в мире) рыночного сознания, устоявшейся государственно-образовательной идеологии, преобладающего типа культуры, системы политических и социокультурных ценностей, окружающих его и на него влияющих. Все это на практике означает, что настоящее во многом определяет характер видения прошлого.
По мнению современного историка М. Бахтина: «Прошлое и настоящее тесно связаны друг с другом, причем связь эта имеет двусторонний характер. Во-первых, настоящее детерминировано прошлым, поскольку оно вырастает из него, является его продуктом. Во-вторых, прошлое – это во многом то, что мы, современные люди, о нем думаем. И в определенном отношении можно сказать, что прошлое есть продукт современности…» (Бахтин, 2005). Более того, по точному замечанию французского историка А. Про, «…в конце концов историк создает тот тип истории, который требует от него общество; иначе оно от него отворачивается…» (Про, 2000). Отворачивается в виде получения престижной работы, запрета публикаций, а то и в форме политических преследований. Общество всегда будет определять правила и формы исследовательской активности любого ученого – и это норма жизни (как 200 лет назад, так и сегодня). Все это неизбежно политически и идеологически осовременивает научные тексты историков, ценностно их детерминирует и, безусловно, уводит их от строгой объективности.
Конечно, подобные утверждения будут оспариваться из лагеря сторонников «чистой» науки. «Ведь наука, если она наука, а не мифология и политическая идеология, просто обязана служить беспристрастной истине», – скажут они. Но это в теории, а на практике мы наблюдаем совсем другое. А. Грамши указывал: «…наука, несмотря на все усилия ученых, никогда не будет набором чисто объективных сведений: она всегда имеет оболочку из какой-либо идеологии и конкретно представляет собой синтез фактов и гипотез, которые надстраиваются над чисто объективными фактами» (Грамши, Лукач, 2021: 68). Знание связано с властью и производно от нее, считал модный французский философ М. Фуко, адаптировавший идеи К. Маркса к современности постмодерна. И это надо помнить всегда, знакомясь с тем или иным научным историческим (и не только) текстом. Политически заряженный В.И. Ленин еще более резко возражал сторонникам беспристрастной и абсолютно объективной науки: «…“беспристрастной” социальной науки не может быть в обществе, построенном на классовой борьбе... И ожидать беспристрастной науки в обществе эксплуатации наемного труда – есть глупенькая наивность» (Ленин, 1973: 40). Но это слова великого политика. А что говорит по этому поводу сама наука? Удивительно, но современный российский историк Ю. Зарецкий, по сути, повторяет то же самое. По его словам, сама идея автономной «объективной» науки есть «фантазия, культивируемая учеными либо в целях собственной карьеры, либо ради успокоения людей»1.
Профессиональная этика историка и историческая политика – что сильнее? И все-таки, если мы считаем историю наукой, то историки, как ученые, в своих исследованиях просто обязаны быть вне идеологии и идеологических пристрастий. Разумеется, был прав М. Вебер, который весьма категорично указывал, что идеологизированный «ученый», исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений, всякий раз приспосабливаясь к меняющейся политической ситуации и интерпретируя исторические факты и события, просто не имеет никакого отношения к подлинно научным изысканиям (Вебер, 1990: 723). Исходя из строго научной презумпции, этой проблемы быть не должно. Ведь профессиональный историк, как добросовестный ученый, стремящийся к поиску истины, вооруженный всем арсеналом беспристрастного научного поиска, по определению обязан обходить все ловушки субъективности и идеологии (как «ложного сознания»). Однако это правило работает лишь в каноническом научном идеале, но не в жизненной реальности. Поскольку историк, как и любой обществовед, с самого рождения и в течение всей своей научной карьеры является носителем разнообразных форм политической и культурной идентификации, то избавиться от них он может лишь произвольно, поменяв на другие (например, с российского гражданства на американское), но такие же жесткие нормы национально-культурной идентичности.
Напомним базовые препятствия на пути к объективности науки. Любой историк – это всегда гражданин какой-то страны, имеющий определенную этничность (национальность), иногда разделяемую им религиозную конфессию, приверженный, помимо чисто родовых (общечеловеческих) субъективных пристрастий, еще и той или иной общественной морали, нравственности, полученному им образованию, которое, в свою очередь, влияет на выбор его мировоззренческих оценок в научном описании. И наконец, любой историк (как образованный человек) разделяет определенную систему политических ценностей, конкретную политическую идеологию, которую он волен в течение жизни неоднократно менять. Все это в совокупности является никогда не преодолимыми до конца препятствиями на пути к полной научной объективности.
А как вообще обстоят дела с наукой? В развитых западных странах, несмотря на всю по-литизацию/партизацию официального исторического дискурса о якобы главных «спасителях» человечества – англо-американцах в годы Второй мировой войны, параллельно существует развитая культура критического научного мышления. Есть здесь и прекрасные научные исторические школы, имеющие большую автономию от государства. А что в других странах мира? Тут еще печальнее. Гораздо в большей степени мифологизации и политизации исторической науки подвержены страны так называемого Третьего мира, в которых, с одной стороны, наблюдается отход от европоцентричной парадигмы мышления, но, с другой стороны, идет неприкрытое возвеличивание своего доколониального прошлого (даже в ущерб фактам) и сугубо негативное оценивание европейского колониализма. В этом есть своеобразная идеолого-научная составляющая «скрепа» для усиления национального суверенитета этих стран. Во многом политизированная антиколониальная доминанта наблюдается в научных текстах также и у историков ряда постсоветских стран, особенно на Украине1. В таких странах еще не выработалась традиция профессиональной научной автономии от государства. Это не скорый процесс.
Профессиональная историческая наука в России давно уже сформировала устойчивые традиции научной компетентности, профессионального признания ее со стороны зарубежных научных сообществ в разработке самых разнообразных научных направлений, тем, сюжетов и т. д. К тому же постсоветский период был временем относительной самостоятельности научной истории от власти и плотного государственного контроля.
Наконец, важна также традиция научной репутации самого историка. Если историк состоялся как ученый и дорожит своей научной репутацией, то он, скорее всего, не будет опускаться в своих исследовательских текстах до уровня откровенной политической ангажированности и площадной полемики, принятой в блогосфере и социальных сетях. В конце концов, для этого есть совсем другой формат (не строго научный), в рамках которого (например, в социальных сетях и т. д.) даже профессиональный историк может себе позволить высказаться более свободно, более субъективно и политизированно. Все потому, что профессиональный историк при этом еще и гражданин со своей системой ценностей (идеологических, мировоззренческих), с внутренним кодексом социального поведения и господствующим типом сознания (в том числе и классовоидеологического). В этом вся невероятная сложность научного исторического исследования, которое стремится вырваться из цепких лап неизживаемой классово-политической (идеологической) и мировоззренческой субъективности самого историка.
Существует масса примеров, как в разнообразных исторических исследованиях и оценках самих историков проявляет себя логическая связка «классовость-партийность, или идеологизи-рованность». Приведем показательные примеры сугубо политизированных оценок у именитых исследователей в отношении Октябрьской революции 1917 г.
Так, с точки зрения либерального политолога М. Урнова, Октябрь «был антигосударственным переворотом, когда власть в стране захватила крайне авантюристическая организация». Известный историк (член-корреспондент РАН, между прочим), либерал Л. Васильев в своей исследовательской работе отказывает в праве называть Октябрь 1917 г. революцией, считая ее не более чем «страшной бандитской мясорубкой во имя утопической химеры» (Васильев, 2011). А вот мнение консервативного историка Б. Пушкарева: «Октябрьский переворот и вытекавший из него “великий эксперимент” перехода к коммунизму отбросили страну в некоторых отношениях назад на десятилетия, а в некоторых и безвозвратно». Еще более резкие оценочные высказывания можно обнаружить у политолога, депутата, политика и видного партийного функционера партии «Единая Россия» А. Исаева: «По-моему, революция 17-го года – просто национальная катастрофа, с которой мы еще не совладали и не справились, и не понятно, выживем ли мы после этой катастрофы»2.
Еще раз подчеркнем, что подобные высказывания принадлежат признанным ученым, действующим политикам, а не рядовым блогерам. Но это не мешает им столь пристрастно судить, с их классово-идеологической точки зрения, «ненавистную» им революцию. Почему? Все потому, что разделяемые ими политико-идеологические взгляды неизбежно (даже порой незаметно для самих авторов) будут вводить «в свои рамки» анализ социальных явлений прошлого. Не случайно в марксизме особо подчеркивается неизбежный классово-идеологический характер всех теорий и концепций социальных наук.
Для полноты картины можно привести многочисленные факты того, как исследователи, приверженные коммунистической идеологии, будут в высшей степени пристрастно относиться к Октябрю 1917 г., только уже с полным одобрением и возвеличиванием. Таким образом, партийность, или «классово-идеологическая субъективность», всегда была и будет неизменной формой общественного сознания. А значит, она в той или иной мере присуща всем гуманитариям и, конечно, историкам, исследующим прошлое конкретного общества1. То же самое можно наблюдать у многочисленных историков, которые будут идеологически по-разному оценивать результаты горбачевской перестройки и 90-х гг. Вот почему им так невероятно сложно сохранить объективность в оценке важнейших исторических событий.
К тому же любое историческое исследование прошлого, несмотря на все научные принципы историзма, неизбежно несет в себе современность самого исследователя. Осовременивание прошлого настоящим сквозит в каждом научном тексте, так как историки всегда анализируют и оценивают прошлое, исходя из ценностей современности. В противном случае, историческая наука не была бы такой политизированной и не менялась бы регулярно. А мы все время наблюдаем обратное – ее крайнюю политизацию и переписывание. Все время меняется и ее научный дискурс, во многом производный от общественно-политического. Мы постоянно наблюдаем картину, что со сменой эпохи, социального строя, политического режима, доминирующих ценностей в обществе все время меняется и язык (дискурс) ученых, на котором они объясняют и моделируют историческое прошлое. В самом языке, понятиях, терминах (насквозь пропитанных господствующими ценностями), используемых ученым в описании социальной реальности, много от узаконенной политическими порядками современности, в которых живет он сам.
Известно, что в западных странах в научном обществоведческом дискурсе часто употребляемые слова и термины: «демократия», «свобода», «толерантность», «плюрализм», «личность», «гражданское общество», «социальное конструирование» и т. д. Однако в научном языке Китая, к примеру, или современной России (в зависимости от иной цивилизационной среды) здесь будут преобладать другие термины и категории. Так, с постепенным изживанием западно-цивилизационного колониального прошлого 90-х гг., в современном языке российских обществоведов (от философов до историков) стали все чаще использоваться такие слова, как: «правда», «справедливость», «Отечество», «патриотизм», «безопасность», «традиция», «государство-цивилизация», «Русский мир» и т. д. На наших глазах произошла своеобразная деоккупация общеупотребительного дискурса в социальных науках России. Собственно, в этом нет ничего удивительного. Ведь первоначальный общественно-научный дискурс сложился в рамках западной цивилизации, а затем с помощью всех видов экспансии (включая и культурную) был распространен и на другие цивилизационные миры. Причем этот факт долго не признавался в мире.
В любом случае, в свершившемся факте суверенизации российского дискурса мы наблюдаем явный примат новой формы политического субъекта над обществоведческим дискурсом. Что же, это норма современной политики. Как пишет отечественный философ: «сколько существует государственная власть и политика, столько они стремятся контролировать историческое сознание или использовать его в своих целях в ходе политической борьбы» (Ореховская, 2023). В этом есть вся суть ярко выраженного на сегодня феномена так называемой «исторической политики». Впрочем, за ее новым модным термином скрывается все та же неизживаемая партийность истории.
О текущей победе исторической политики . В начале нулевых годов XXI в. в целом ряде стран Восточной Европы в моду вошла так называемая «историческая политика». Как полагает историк А.И. Миллер, в терминологической связке «историческая политика» сама история выступает лишь как прилагательное к политике – как к существительному (Миллер, 2009: 8). Историческая политика там распространялась под прямым покровительством государственных структур и имела цели как внешнеполитического, так и внутреннего пользования. Создавались так называемые «институты памяти» с откровенно антироссийским подтекстом, в которых поминались многочисленные жертвы советской и российской «агрессии и оккупации». Цель таких «институтов памяти» – зафиксировать для России роль многовекового архиагрессора, «преступного государства», во всем «виноватого», а для себя – роль абсолютной «жертвы» в расчете получить определенные политические и моральные преимущества. Требуя от России покаяния и компенсаций за реальные и мнимые грехи, описывая РФ как «чужую и враждебную» страну-цивилизацию, восточноевропейские сторонники «исторической политики» считают ее подходящим инструментом для формирования национальной идентичности у себя в стране для борьбы со своими политическими оппонентами, для маргинализации русскоязычного меньшинства (в Прибалтике) (Миллер, 2008: 51–52).
Потребовалось немалое время, чтобы такие же методы борьбы за «правильную» историю и интерпретацию исторического прошлого сложились и в России. Современные российские власти учли негативный урок советской перестройки, когда при попустительстве центрального руководства КПСС еще в советских СМИ, научпопе (включая исторические журналы) была развязана массированная и оголтелая антисоветская пропаганда, стремительно обесценившая все советские достижения и сыгравшая решающую роль в судьбе советского государственного социализма и самого СССР. В современной России историческая политика получила широкое распространение после Крыма и стала своеобразным ответом на масштабный антироссийский вызов Запада, включая и его многочисленные антироссийские интерпретации исторического прошлого.
Историческая политика в наши дни, в условиях открытого, острого военно-политического (межимпериалистического) и межцивилизационного конфликта России и коллективного Запада, приобрела особую актуальность. Находясь под мощным силовым и информационным давлением Запада, российские власти в целях объединения и укрепления единства в ранее расколотом (на богатых и обездоленных; на либералов, консерваторов, коммунистов и проч.) обществе, наконец, перестали стесняться в средствах и инструментах исторической политики. В последнее время была сформирована официальная и единообразная точка зрения на те или иные исторические события. Цель этих мер – сформировать единое историческое сознание1. Количество уроков и часов истории увеличилось, а официальная версия истории теперь преподается в школе, начиная с первого класса.
Более того, с 1 сентября 2023 г. в российских вузах внедрена новая обязательная дисциплина «Основы российской государственности». Как сказано в самом учебнике «Основы российской государственности», отныне «…сознательная историческая политика – это одно из важнейших направлений государственной политики вообще»2. И эту новацию сразу подметили и критично оценили исследователи. Так, по мнению Р. Осина, «курс “Основы российской государственности”» носит явно пропагандистский, идеологический характер» и «не способствует прививанию научного мировоззрения студентам» (Осин, 2024: 78).
Зато сами сторонники исторической политики из числа профессиональных историков настроены решительно против научных «историков-объективистов», автономных от государственного контроля. Они считают, что поскольку ученые историки не в состоянии выработать единую, приемлемую для всего научного сообщества картину прошлого, то это должны сделать (и, по их мнению, уже успешно делают) историки исторической политики по прямому заказу государства, под непосредственным государственным контролем и его финансированием3. Тут неизбежно приходит на память сравнение с советским периодом. Однако разница есть, и она существенная. Отличие заключается в иной классово-капиталистической сути российского государства с принципиально иной социально-экономической политикой.
Одновременно с этим стоит отметить и выгодное отличие постсоветских от позднесоветских властей времен перестройки. Даже не добившись существенных достижений в социально-экономической политике, Кремль на сегодня имеет более прочную власть над населением страны, чем в годы перестройки и в 90-е гг. Власть умело воздействует на население страны массированной пропагандой государственного патриотизма и различными информационными каналами исторической политики, добиваясь выгодной для себя политической мобилизации населения России.
В то же время фактор СВО неизбежно оказывает депрессивное влияние на отстаивание любой неподконтрольной государству как общественной, так и научной точки зрения. Во время любой войны всякий плюрализм общественных мнений, взглядов становится неактуальным для общества и даже преследуется государством. К тому же традиционное и консервативное большинство российского населения (электорат В. Путина) активно поддерживает наступление властей на остатки прежних либеральных свобод. Так, по последним данным ВЦИОМ за январь 2024 г., 63 % россиян (устойчивое большинство!) выступают за введение для российских СМИ государственной цензуры4. Ясно, что движение в этом направлении последует и дальше (включая и новые поправки в Конституцию).
Поэтому наивно предполагать, что в условиях проведения СВО возможно сохранение каких-то независимых от доминирующей политической линии научных взглядов и суждений. Это уже в прошлом. Можно сказать, что историческая политика с ее бескомпромиссным биполярным делением «Друг-Враг» явно отодвинула на задний план всю более многогранную и более сложную научную историю (особенно по вопросам современности). Но то же самое наблюдается и в странах, которые открыто борются с «вековым злом» современности – Россией. На войне как на войне.
Приходится лишь удивляться тому, что многие адепты исторической политики стараются подчеркнуть научную «объективность» своих политизированных нарративов. Они порой искренне считают5 своих же иностранных оппонентов и таких же сторонников исторической политики откровенными фальсификаторами. Очевидно, что все попытки указанной политики переубедить другую такую же сторону обречены на провал. Суть ее самой совсем не в этом: не в стремлении переубедить внешнего оппонента, а уберечь от вредного воздействия своего внутреннего пользователя (читателя) – раз; воспитать через формат «правильного» государственного патриотизма и мобилизовать общество через привитие ему общего исторического сознания на борьбу с внешним и внутренним врагом – два. И надо сказать, с этими целями российская историческая политика пока справляется успешно.
В заключение хочется еще раз высказать простую истину, не раз прозвучавшую в данном тексте. Никому, даже самому искушенному ученому, стремящемуся к объективности и беспристрастности в своих исследованиях, нельзя быть «объективным», свободным от современного общества, государства, господствующего класса в нем, доминирующих в нем идей и ценностей, особенно политических. Недаром Аристотель называл человека «политическим животным». Профессиональный историк, будучи гражданином своей страны, являясь носителем многих идентичностей, включая классово-политическую и этическую, всегда будет балансировать на грани научной объективности и своей субъективной пристрастности. Наконец, государству и его гражданам не нужна химически «чистая» наука об обществе. И поэтому в социуме всегда будет здравствовать партийность или историческая политика с откровенным политическим субъективизмом. Последнее, впрочем, не дает никакого основания считать историка (как и философа) лишь мелким прислужником власти и господствующей идеологии. Тут все зависит от самого человека.
Список литературы «Ремесло» историка и современная историческая политика
- Бахтин М.В. Модели истории: Социально-антропологический анализ. М., 2005. 152 с.
- Васильев Л.С. Эволюция общества. Типы общества и их трансформация: монография. М., 2011. 200 с.
- Васильченко М.А. К вопросу о трансформации российской цивилизации в современной отечественной историографии // Исторический бюллетень. 2023. Т. 6, № 6. C. 71–75.
- Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова. М., 1990. 804 с.
- Грамши А., Лукач Д. Наука управлять народом / пер. Г. Смирнова, С. Земляного. М., 2021. 336 с.
- Дубин Б. Мифологема «особого пути» в общественном мнении современной России // «Особый путь»: от идеологии к методу. М., 2018. C. 243–276.
- Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма // Полное собрание сочинений. Март-сентябрь 1913: в 55 т. М., 1973. Т. 23. С. 40–48.
- Миллер А.И. История империй и политика памяти // Наследие империй и будущее России. М., 2008. С. 25–58.
- Миллер А.И. Россия: власть и история // Pro et Contra. 2009. Т. 13, № 3–4. С. 6–24.
- Ореховская Н.А. Историческая политика как форма борьбы с фальсификацией истории // Философия. История. Образование. 2023. № 3 (9). Ст. 6. [Без пагинации].
- Осин Р.С. Мировоззренческие и теоретико-методологические положения курса «Основы российской государственности»: критический анализ // Общество: философия, история, культура. 2024. № 2. С. 74–79. https://doi.org/10.24158/fik.2024.2.9.
- Про А. Двенадцать уроков по истории / пер. Ю.В. Ткаченко. М., 2000. 333 с.
- Смоленский Н.И. Проблемы теоретического плюрализма // Проблемы исторического познания. М., 1999. С. 39–45.