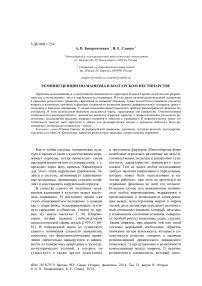Реминисценции шаманизма в болгарском нестинарстве
Автор: Запорожченко Андрей Владимирович, Славко Валерия Евгеньевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Проблемы возникновения и существования шаманизма на территории Южной Европы недостаточно разработаны как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях. В то же время наличие реминисценций шаманизма в народных религиозных традициях европейцев не вызывает сомнения. Также недостаточно внимания уделяется вопросу о возможных причинах и факторах сохранности элементов древних мифоритуальных сценариев, присутствующих в народных верованиях. С целью освещения вышеупомянутых проблем рассматривается феномен нестинарства. В этом религиозном феномене выделяются черты, характерные для шаманизма. Отличительными особенностями южноевропейского шаманизма являются аграрный характер и профессиональное разделение религиозных специалистов (решение аграрных вопросов и общение с умершими). В мифологическом плане эти особенности находят свои параллели в общем для индоевропейцев мотиве о сражении небесного богагромовержца с хтоническим соперником - змеем.
Южная европа, индоевропейский шаманизм, адаптация, экология религий, нестинарство, хождение по углям, св. константин, народные религиозные традиции, дохристианские верования
Короткий адрес: https://sciup.org/147219174
IDR: 147219174 | УДК: 008
Текст научной статьи Реминисценции шаманизма в болгарском нестинарстве
Как и любая система, человеческая культура в процессе своего существования переживает периоды, когда происходит смена программ развития или их направления, т. е. проходит через фазу кризиса. Характерное для этого этапа нарушение равновесия, баланса в системе, активизирует адаптационные механизмы, призванные сгладить конфликт и восстановить нарушенный порядок.
В качестве одного из подобных механизмов адаптации в культуре может выступать шаманизм. В настоящее время уже стало общепринятым положение о шамане как о посреднике, поддерживающем духовную гармонию в обществе. Одним из первых эту мысль высказал С. М. Широко-горов, назвав шамана стабилизатором психологической сферы людей [1919. С. 6061]. В современной науке не существует единого понимания сущности шаманизма, поскольку его феноменологические проявления значительно варьируются в зависимости от конкретных природных и культурно-исторических условий, в которых он существует, а также других эндогенных и экзогенных факторов. Многообразие форм неизбежно порождает различные взгляды и, соответственно, подходы к раскрытию сущностных характеристик шаманского комплекса. Тем не менее любое исследование требует наличия оперативного определения, которое может быть использовано в качестве рабочего, при этом не претендуя на отражение феномена во всей его полноте. В нашем случае под шаманизмом понимается особое мировоззрение, выраженное в представлении о возможности коммуникации между потусторонним миром и миром людей; роль медиатора выполняет религиозный специалист (шаман), который, находясь в измененном состоянии сознания, совершает особый ритуал (камлание, сеанс, сессия). Таким образом, при анализе той или иной системы верований необходимо обратить внимание на три компонента, которые в совокупности позволят говорить о наличии реминисценций архаического шаманского комплекса: 1) представления о возможности коммуникации между мирами; 2) наличие религиозного специалиста, который, нахо-
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 8: История © А. В. Запорожченко, В. Е. Славко, 2014
дясь в измененном состоянии сознания, способен осуществлять эту коммуникацию; 3) особый ритуал, во время которого совершается коммуникация.
Длительное время в научной литературе шаманизм рассматривался как специфический религиозный феномен, характерный для Центральной и Северной Азии. В первую очередь это было связано с тем, что впервые шаманизм получил широкую известность в научных кругах благодаря этнографическим исследованиям XVIII–XIX вв. Однако спустя некоторое время почти во всем мире были выявлены типологически схожие с шаманизмом явления, получившие наибольшее распространение в пограничных регионах, где осуществляется тесная межкультурная коммуникация. В данной статье речь пойдет о близких к европейской части Турции районах Болгарии, где присутствуют архаические реликты устойчивой культурной традиции, получившей название «нестинарство». Центральным элементом нестинарства является танец на горячих углях – феномен, характерный для восточных мистериальных практик.
Изучение шаманизма в индоевропейском ареале было начато швейцарским ученым К. Мейли [Meuli, 1935]. Со ссылкой на Э. Роде он признает скифские церемонии, описанные Геродотом, подобными тем, что известны у сибирских шаманов, а также подчеркивает сходство «скифского шаманизма» с религиозными воззрениями финно-угорских народов Урала и Зауралья. Г. М. Бонгард-Левин и Э. А. Грантовский делают заключение о существовании шаманского пласта в религии предков скифов, а поскольку отдельные элементы шаманизма можно выявить и в самых древних религиозных сочинениях Индии и Ирана, то их возникновение тоже позволительно относить к общеарийской эпохе. Это предположение подкрепляется наличием данных о культурном взаимодействии древних ариев с северными племенами лесной зоны – с предками народов финно-угорской языковой группы [1974. С. 99].
В результате поисков следов шаманской идеологии и техники у индоевропейцев М. Элиаде приходит к выводу о том, что шаманские мифы, обряды и техники экстаза зафиксированы в более или менее «чистой» форме у всех индоевропейских народов. Говоря о морфологическом сходстве индоев- ропейской и тюркской религиозных систем, он видит их отличие в степени значимости присутствующих в них элементов шаманизма. По мнению М. Элиаде, это можно объяснить двумя факторами. В качестве первого он рассматривает специфическую организацию общества, понимаемую с позиции систематической концепции магико-религиозной жизни, выявленной Ж. Дюме-зилем. Вторым важным аспектом является влияние восточных и средиземноморских цивилизаций аграрно-городского типа, которое осуществлялось по мере продвижения индоевропейских народов к Ближнему Востоку [Элиаде, 1998а. С. 281–284]. Принимая во внимание очевидные параллели индоевропейской религиозной системы с иранской и финно-угорской, М. Элиаде рассматривает их в рамках заимствования в случае с иранскими традициями, а в случае с финноугорскими верованиями объясняет сходство либо заимствованием в результате древних контактов этих народов, либо происхождением от одного общего источника.
В целом вопрос происхождения и распространения шаманизма на территории Европы в настоящее время остается открытым и требует отдельного исследования, выходящего за рамки данной работы.
Относительно сущности шаманского комплекса, распространенного в Европе, у ученых также не сложилось единого мнения. Венгерский исследователь Г. Кланицаи, рассматривая верования народов, населяющих территорию Европы, считает, что «вместо того, чтобы искать… только признанную – хоть и не бесспорно… – модель центрально-европейского шаманизма, представляется более уместным говорить о различных устойчивых элементах шаманизма в Центральной и Южной Европе, преобразованных и интегрированных в новые системы верований множеством различных способов» [Klaniczay, 1984. S. 12]. Таким образом, он, хотя и признает факт существования шаманизма на территории Европы, предпочитает говорить только о присутствии элементов шаманизма в народных верованиях европейцев, а не о наличии единого шаманского комплекса.
Несколько другой взгляд на шаманизм в Европе предлагает Е. Поч. По ее мнению, на территории Центральной и Юго-Восточной Европы до наших дней сохранились общества, верования которых содержат в се- бе архаические элементы, связанные с шаманскими практиками. На основе анализа данных современных исследований она делает заключение о существовании европейского (индоевропейского?) шаманизма. При описании характеристик основной функции шамана – посредничества между мирами – ею были выделены две специфические черты индоевропейского шаманизма: аграрный характер и связанные с ним циклические особенности. Кроме того, она предприняла попытку расширить мифологические основы, поместив два основных типа посредников, выделенных К. Гинзбургом (колдунов, обеспечивающих плодородие, и колдунов-провидцев, узнающих будущее от умерших), в рамки дуальной системы, связанной с Пер-кунасом / Перуном, богом-громовержцем, и Велниасом / Волосом / Велесом – богом-покровителем скота и богом мертвых [Pócs, 1993].
Изучая народные верования, получившие распространение на территории Европы, итальянский исследователь К. Гинзбург выявил параллели между итальянскими бенан-данти и шаманами. Дальнейший поиск привел его к выводу о существовании на территории Европы множества типологически схожих явлений (итальянские benan-danti, балканские zduhači, венгерские táltos, хорватские и словенские kresniki, корсиканские mazzeri, осетинские burkudzäutä, лапландские noai'di и др.) [Ginzburg, 1991. P. 153– 173].
Обнаружение общих морфологических черт в различных народных верованиях предполагает поиск возможных теоретических обоснований их сходства. Изначально отбросив фактор случайного совпадения в силу многочисленности и сложности схожих элементов в рассматриваемых феноменах [Гинзбург, 1990. С. 138], К. Гинзбург пишет, что «с учетом культурного сближения того изобилия материала, что мы описали, теоретически возможны три объяснения: (а) диффузия; (б) происхождение из общего источника; (в) появление в силу структурных характеристик человеческой психики» [Ginzburg, 1991. P. 213].
Говоря в целом о возможности одновременного сосуществования предложенных гипотез, К. Гинзбург предлагает обратить внимание на метафоры, занимающие заметное место среди категорий бессознательного, регулирующих символическую деятель- ность. Идея целостности занимает одно из центральных мест в развитии человека, поэтому почти любая система внутреннего развития (этическая, религиозная) направлена на интеграцию индивидуального и группового сознания. Это означает, что мотивы, характерные для личностных переживаний, с неизбежностью проявляются в культуре. Так, этапы развития кризисного состояния в рамках определенного цикла находят свое отражение во множестве мифоритуальных сценариев, распространенных по всему миру [Торчинов, 1997; Фрэзер, 2006; Элиаде, 1998б]. Анализируя внешние исторические данные и внутренние структурные характеристики передаваемых явлений, К. Гинзбург приходит к рассмотрению настойчиво повторяющегося мотива смерти и возрождения – одного из наиболее часто встречающихся. Это связано с особой драматизацией, присущей данному сюжету как кульминационному этапу в ходе развития кризиса.
Во время прохождения фазы кризиса в системе повышается уровень энтропии (хаоса). Исследователи отмечают, что «системы с расшатанной структурой и нарушенными программами получают возможность легче адаптироваться к новым условиям» [Анатомия кризиса, 1999. С. 184]. Согласно исследованиям выдающегося отечественного психолога и педагога Л. С. Выготского, существует тесная связь между культурноисторическими условиями жизни индивида и процессом его адаптации [1984. С. 220– 241]. Кроме того, по мнению Л. С. Выготского, психические функции личности получают свое развитие на основе социальных отношений, что позволяет говорить о первичности групповых защитных (адаптационных) механизмов по отношению к личностным [Там же. С. 150–151].
Выводы Л. С. Выготского и тот факт, что выработка механизмов адаптации, реализующихся в конкретных мифоритуальных комплексах, происходит при взаимодействии с неблагоприятными факторами внешней среды, позволяют сделать предположение о возможном сходстве механизмов адаптации у обществ, проживающих в схожих условиях.
Еще один подход к изучению религиозных явлений, получивший название экологии религий, был разработан шведским антропологом и историком религий О. Хюльткран- цем. По его мнению, многие явления культуры, в том числе религиозные верования и обряды, подвергаются влиянию окружающей среды, которая включает в себя природные условия, топографию, биотоп, климат и другие аспекты. Область применения концепции экологии религий ограничена. Во-первых, «религиозно-экологический подход является ключом преимущественно к изучению тех религий, культурный контекст которых зависит от природного окружения, т. е. к так называемым примитивным религиям» [Hultkrantz, 1979. P. 224]. Во-вторых, объектами экологического анализа могут являться только способы организации религиозных идей в образцы и структуры, но не сами эти идеи. Таким образом, экологический подход применим при исследовании морфологических особенностей индоевропейских народных верований, содержащих в себе архаические элементы.
О. Хюльткранц отмечает наличие очевидных параллелей, наблюдаемых во многих верованиях различных народов, которые невозможно объяснить с позиций диффу-зионизма, т. е. при помощи поиска культурных и исторических контактов. По его мнению, такое сходство является результатом схожести окружающей среды, общностью признаков, входящих в культурное ядро (под «культурным ядром» имеются в виду аспекты культуры, формирующиеся в ходе деятельности человека, направленной на адаптацию в тех или иных природных условиях), а также примерно одинаковым уровнем развития экономики и социальной организации обществ [Ibid. 1979. P. 221–236].
Под влиянием христианства народные верования, распространенные на юге Европы, в разной степени подверглись трансформации, однако их характерные черты сохранялись на протяжении веков. Шаманское мировоззрение обладает большой пластичностью, поэтому в идеологическом плане оно отличается значительным разнообразием, а поскольку шаманизм является системой мировоззрения, то он не вступает в конфронтацию с религией. Таким образом, религиозные традиции, в которых присутствуют элементы шаманизма, продолжают существовать практически независимо от господствующей религиозной системы.
В качестве примера рассмотрим феномен нестинарства, получившего распространение на юго-востоке Болгарии, в горах
Странджа. Его можно определить как обрядовый комплекс, кульминационным моментом которого является танец на горячих углях. Впервые данные о нестинарских обычаях были представлены в этнографической работе П. Р. Славейкова в газете «Гайда» в 1866 г. (позднее переизданы) [1979]. В связи с отсутствием более ранних свидетельств о существовании подобного мифоритуального комплекса на территории Болгарии вопрос о возникновении нестинарства до сих пор остается предметом научных споров.
Не вызывает сомнений дохристианское происхождение нестинарских обрядов. Еще в начале XX в. М. Арнаудов, исследуя данный феномен, пришел к выводу о том, что хождение по раскаленным углям в ритуальных целях было известно в Европе еще в античное время. По его мнению, подобные обряды восходят к натуралистическим взглядам и имеют своей целью магическое очищение, повышение плодородия и укрепление здоровья. Проводя параллели между нестинарством и рядом других ритуалов, связанных с хождением в огне, М. Арнаудов делает заключение о том, что они имеют общий источник с шаманскими ритуалами [1971. С. 82–93]. При этом он отмечает, что шаманизм не должен быть истолкован ни как особая религия, ни как универсальный этап в религиозной эволюции, поскольку, несмотря на функциональное сходство религиозных специалистов, их деятельность осуществляется в различных мифологических и религиозных системах [Там же. 1971. С. 107].
Вопрос об этимологии слова «нестинар-ство» не решен окончательно. Наиболее достоверными считаются версии, согласно которым это слово произошло либо от греческого νηστία «огонь, очаг» или νηστεία «пост», либо от αναστενάρης – формы глагола αναστενάζω «вздыхать, стонать» (из-за звуков, издаваемых нестинарами во время ритуала) [Цивьян, 1977. С. 178].
Существенным аспектом религиозной мысли нестинаров является вера в то, что они могут быть одержимы духом святого-покровителя (чаще всего, духом св. Константина). Именно это, по их представлениям, позволяет ходить по раскаленным углям без какого-либо ущерба для здоровья, предсказывать будущее и исцелять больных [Арнаудов, 1971. С. 57]. Роль нестинаров как посредников не ограничивается их связью с духами-покровителями: считается, что они способны спускаться в подземный мир и приносить людям вести от мертвых [Ка-лоянов, 1995. С. 76, 87].
Достигнув определенного состояния сознания, т. е. почувствовав в себе присутствие духа святого, нестинары совершают ритуальный танец на углях, который иногда называют игрой в огне. «Нестинары, испытывающие крайние душевные мучения перед тем, как войти в огонь, после игрищ ощущают необыконвенное облегчение и покой. Прохождение через огонь воспринимается ими как обновление и достижение более высокого духовного статуса» [Цивьян, 1977. С. 177]. Таким образом, «одержимость» воспринимается самими нестинарами как страдание, избавиться от которого можно только путем танца в огне, т. е. смерти, после которого происходит возрождение – возвращение в нормальное психофизическое состояние. Здесь можно выделить характерный для шаманизма мотив «болезни-призвания», которая отражает традиционную схему посвящения: страдание, смерть, воскрешение [Элиаде, 1998а. С. 39], что по сути своей является кульминацией переживания кризисного состояния.
Говоря о нестинарской традиции на территории Греции (анастенарии), Д. Ксигала-тас пишет, что «люди часто приходят к ним (анастенариям. – А. З. , В. С. ) и просят разгадать их сны, дать им совет или помочь им преодолеть болезнь. Анастенарии используют свои иконы, чтобы лечить болезни, вызывать дождь, защищать посевы и скот от болезней или предотвращать некоторые стихийные бедствия. Они выслушивают признания людей, предсказывают будущее и разоблачают воров и других нарушителей» [Xygalatas, 2011. P. 59]. Подобные рассказы говорят о структурном и функциональном сходстве нестинаров и шаманов.
М. Арнаудов находит в нестинарских обрядах реминисценции древних мистериаль-ных практик, пришедших с востока [1971. С. 91–106, 119]. Т. В. Цивьян при помощи анализа лингвистического материала демонстрирует связь нестинарства с античными культами: «можно предположить, что связь с Дионисом, вышедшим из огня, с циклом весеннего возрождения (Деметра, Персефо-на, см. Элевсинские мистерии в месяц άνθεστήριον), делают правдоподобным выделение комплекса -n-s-t-n-, который в ко- дировании основного мифа соответствует семантеме восставание, воскрешение (άναστασις). Идя дальше, можно предположить следы этого же комплекса в имени Константин» [Цивьян, 1977. С. 178–179]. Она выделяет также и некоторые элементы, которые, по ее мнению, могут связывать Константина и Елену с Громовержцем [Там же. С. 174–175]. Мотив сражения, присутствующий в мифе о боге-громовержце, проявляется в нестинарской практике в форме борьбы двух святых (обычно Большого и Малого Константина) – сражения на иконах, когда одну ударяют о другую (иногда так сильно, что икона раскалывается), сопровождающегося словесной перепалкой [Арнаудов, 1971. С. 26]. Этот мотив сражения за благополучие и плодородие согласуется с разработанной Е. Поч гипотезой о дуализме шаманских практик в Европе.
Реминисценции шаманского мировоззрения присутствуют почти во всех аспектах болгарского нестинарства как проявления одной из народных религиозных традиций Южной Европы [Запорожченко, 2007. С. 6– 7]. Характерная для шаманизма пластичность, подразумевающая сосуществование различных идеологических систем в рамках одного явления, обуславливает единство и отсутствие конфликтов на содержательном уровне, что обеспечивает сохранность элементов архаических мифо-ритуальных комплексов.
Активизация деятельности религиозных специалистов и совершение ритуалов напрямую связаны с ситуациями кризисов. Религиозные специалисты (нестинары) обладают функциональными характеристиками шамана. В первую очередь к ним относится медиативная функция – посредничество между миром людей и миром духов, осуществляемое в измененном состоянии сознания. Способности, которыми обладают религиозные специалисты, непосредственно связаны с возможностью при их помощи сглаживать или разрешать различные кризисные ситуации: предсказание будущего помогает решать ситуации неопределенности, разные бытовые проблемы и трудности; целительство связано с таким кризисным состоянием, как болезнь; посредничество в различных формах решает экзистенциальные вопросы жизни и смерти. К ним же относится мотив сражения за плодородие и плодовитость скота, от которых зависит будущее общины, имеющий под собой мифологические основания в виде главного сюжета индоевропейской мифологии – сражения Громовержца с хтоническим соперником. Вся деятельность религиозных специалистов направлена на устранение возникшего хаоса, упорядочивание системы и восстановление утраченного баланса. В случае болгарского нестинарства основной ритуал, призванный осуществить магическое очищение, укрепить здоровье и обеспечить благополучие всего общества, происходит, как правило, раз в году, однако свои функции предсказателей и целителей нестинары выполняют в любое другое время, когда в этом есть необходимость.
Шаманизм, обладающий характеристиками адаптивной системы, большую часть времени находится в латентном состоянии. Регулярность возникновения кризисных периодов, обусловленная циклической траекторией развития систем, обеспечивает стабильную актуализацию механизмов адаптации, благодаря чему народные верования, содержащие в себе элементы шаманского мировоззрения, сохраняются до наших дней.
REMINISCENCES OF SHAMANISM IN BULGARIAN NESTORIANISM
Список литературы Реминисценции шаманизма в болгарском нестинарстве
- Анатомия кризиса/А. Д. Арманд, Д. И. Люри, В. В. Жерихин и др. М.: Наука, 1999. 239 с.
- Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. М.: Мысль, 1974. 206 с.
- Выготский Л. С. Детская психология//Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1984. Т. 4. 432 с.
- Гинзбург К. Образ шабаша ведьм и его истоки//Одиссей. Человек в истории. М., 1990. С. 132-146.
- Запорожченко А. В. Шаманские реминисценции в духовной культуре индоиранцев. -Новосибирск, 2007. -195 с.
- Торчинов Е. А. Религии мира. Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. СПб.: Петербургское востоковедение, 1997. 384 с.
- Фрэзер Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. М.: АСТ, 2006. 781 с.
- Цивьян Т. В. Балканские дополнения к последним исследованиям индоевропейского мифа о Громовержце//Балканский лингвистический сборник/Под ред. А. А. Зализняка и др. М., 1977. С. 172-195.
- Широкогоров C. M. Опыт исследования основ шаманства у тунгусов//Учен. зап. историко-филологического факультета. Владивосток, 1919. Вып. 1. С. 47-108.
- Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М.; СПб.: Университетская книга, 1998а. 356 с.
- Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. Киев: София, 1998б. 384 с.
- Арнаудов М. Студии вьрху Бьлгарските обреди и легенди: В 2 т. София: Издателство на Бьлгарска академия на науките, 1971. Т. 1. 351 с.
- Калоянов А. Бьлгарското шаманство. София: Имнресарско издателска кьща ROD, 1995. 214 c.
- Славейков П. Р. Нрави и обичаи у бьлгарите. Предговор//Славейков П. Р. Сьч.: В 8 т. София: Бьлгарски писател, 1979. Т. 4. С. 288-289.
- Ginzburg K. Ecstasies: Deciphering the Witches Sabbath. N. Y.: Pantheon Books, 1991. 340 p.
- Hultkrantz Å. Ecology of Religion: It's Scope and Methodol ogy//Science of Religion: Studies in Methodology. The Hague; Berlin, 1979. P. 221-299.
- Klaniczay G. Elementy szamanistyczne we wiedź mostwie ś rodkowej Europy//Euhemer -Przegląd Religioznawczy. 1984. № 4 (134). S. 3-20.
- Meuli К. Scythica//Hermes. 1935. Bd. 70. Ht. 2. S. 121-176.
- Pócs É. Cult of the Dead and Magic, Shamanism and Witchcraft (The Chasracteristics of a European Paradigm)//Shamanism and Performing Arts. Papers and Abstracts for the 2nd Conference of the International Society for Shamanistic Re search. Budapest, 1993. P. 144-145.
- Szilard L. O źródłach nestinarstwa//Euhemer -Przegląd Religioznawczy. 1984. № 4 (134). S. 57-67.
- Xygalatas D. Ethnography, Historiography, and the Making of History in the Tradition of the Anastenaria.//History and Anthropology. 2011. Vol. 22. Iss. 1. P. 57-74.