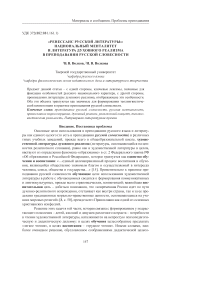"Ренессанс русской литературы": национальный менталитет и литература духовного реализма в преподавании русской словесности
Автор: Волков Валерий Вячеславович, Волкова Наталья Васильевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
Предмет данной статьи – с одной стороны, ключевые лексемы, значимые для фиксации особенностей русского национального характера, с другой стороны, произведения литературы духовного реализма, отображающие эти особенности. Оба эти объекта трактуются как значимые для формировании теолингвистической компетенции в практике преподавания русской словесности.
Преподавание русской словесности, русская ментальность, православное миросозерцание, духовный реализм, религиозный концепт, теолингвистическая реальность, патриаршая литературная премия
Короткий адрес: https://sciup.org/146122065
IDR: 146122065 | УДК: 372(882:881.161.1)
Текст научной статьи "Ренессанс русской литературы": национальный менталитет и литература духовного реализма в преподавании русской словесности
Решение этих задач в той части, которая связана с формированием у подрастающего поколения – детей, юношей и девушек различного возраста – потребности в чтении художественной литературы, наталкивается на непростую психопедагогическую и дидактическую дилемму: в целях обучения целесообразнее предлагать «легкое чтение», в целях воспитания – «трудное чтение». Иными словами, наиболее очевидное решение, обусловленное соображениями дидактической целесо- образности, существо которой сводится к формулировке «читать побольше», – рекомендовать такую литературу, чтение которой, с одной стороны, не представляет существенных трудностей понимания, с другой стороны, которая может вызвать относительно гарантированный интерес у значительного числа обучающихся за счет своего развлекательного характера (детективы и «женские» романы, фэнтези и остросюжетные развлекательные произведения – всё, что соотносится с понятием «массовая культура»). Такое дидактически вполне мотивированное решение, однако, оказывается в существенном противоречии с теми задачами, которые явствуют из общей проблематики взаимосвязи языка и культуры, целей воспитания и развития личности.
Лингвометодическая проекция общей проблемы «Язык и культура» в дальнейшей развёртке включает «Язык и этнос / нация (русские / россияне)», «Язык и менталитет (русский / российский)». Необходимость изучения языка и культуры народа / нации в их взаимосвязи очевидна, что едва ли не наиболее наглядно проявляется в том, что в профильной литературе бытует множество квазисинонимич-ных лингвометодических терминов, фиксирующих необходимость формирования соответствующей компетенции у лиц, изучающих русский язык как родной, неродной или иностранный: социокультурная, этнофилологическая, лингвокультурная, лингвокультурологическая, социолингвистическая, культуроведческая, этнокуль-туроведческая, лингвоконцептологическая и др. (см., например: [13, с. 107–108]). В случае литературы духовного реализма квазисинонимический ряд компетенций, необходимых для ее восприятия / понимания / интерпретации, необходимо дополнить теолингвистической компетенцией, содержание которой сводится к основным сведениям о христианстве (Православии) и соотносительным с ним особенностям русского / российского менталитета.
Данные исходные соображения обусловливают целый ряд лингвометодических («филологометодических»), общефилологических и психопедагогических проблем, связанных с общей задачей знакомства подрастающего поколения с ключевыми особенностями русского менталитета через призму их представленности в литературе духовного реализма. Наиболее существенные проблемы далее в данной работе характеризуются в их взаимосвязи с аналогичной проблематикой смежных областей гуманитарного знания и практики, включая православное богословие и теолингви-стику как дисциплину, нацеленную на изучение взаимодействия языка и религии.
Вопрос о методически корректном перечне черт русского национального характера
Вопрос о лингвоконцептуальных основаниях учебной интерпретации произведений духовного реализма – о ключевых концептах, которые могут использоваться в качестве инструмента интерпретации, – кратко охарактеризован в частности, в работе [8, с. 52]. В данной статье вопрос об интерпретации произведений, отражающих особенности православного миросозерцания, рассматривается более узко, а именно – применительно к интерпретационным возможностям концептов, с разной степенью обоснованности – от предположительности до безусловности – фиксирующих ключевые особенности русского национального характера.
В проекции на психопедагогические и конкретно-методические задачи, связанные с преподаванием русской словесности, вопрос о русском национальном характере формулируется предельно прямолинейно – как проблема такого фундированного различными областями гуманитарного знания перечня основных свойств русского менталитета, который представляет конкретно-методическую ценность и может использоваться в качестве интерпретационного понятийного аппарата, – иными словами, как перечень таких ключевых слов, в которых могут фиксироваться основные компоненты идейного содержания произведений духовного реализма как основания / результаты его учебного анализа. Общие источники такого перечня должны быть безусловно авторитетными и «по определению» не могут диктоваться ни содержанием отдельного произведения, ни субъективным мнением преподавателя.
Исходя из того, что литература духовного реализма по своему идейному содержанию репрезентирует ценности религиозного сознания, а религиозное сознание – предмет святоотеческого и богословского дискурсов, то, с данной точки зрения, наиболее авторитетный источник – православная аксиология как учение о ключевых ценностях христианского миросозерцания.
Концептуальное ядро православной аксиологии – перечень общеизвестных грехов и добродетелей, основная редакция которого сводится к следующему: гордость, сребролюбие, блуд, зависть, чревоугодие (плотоугодие), гнев, уныние – смертные грехи ; любовь, нестяжание, целомудрие, смирение, воздержание, кротость, трезвение (усердие ко всякому доброму делу) – противоположные названным грехам добродетели . Между этими двумя крайностями веками мятется любая христианская душа, русская – в особенности, в силу свойственного ей тяготения к крайностям, что легко усматривается едва ли не в любом произведении отечественной классики – от Пушкина и Гоголя до современных лауреатов Патриаршей литературной премии. Можно пользоваться различными концептуальными основаниями их интерпретации, искать разные характерологические «ярлычки» типа «лишний человек» или «горячее сердце», но не менее разумно и просто опираться на тысячелетнюю традицию церковного человековедения.
В контексте задач данной работы целесообразно особо отметить следующее: во-первых, искать сколько-нибудь прямого соответствия приведенного перечня грехов и добродетелей с особенностями русского менталитета, как они отображаются в художественной литературе, – занятие полезное, но филологически малопродуктивное, поскольку художественный текст в таком случае лишается самоценности, может использоваться скорее лишь как «иллюстрация» к аксиологическим наблюдениям; во-вторых, национальный менталитет, в том числе русский, не сводится и не может сводиться к этико-религиозному прочтению его особенностей и не исчерпывается ими. Следовательно, перечень искомых особенностей русского менталитета и перечень ядерных концептов православной аксиологии (грехов и добродетелей) – это пересекающиеся множества, нетождественные друг другу.
С перечнем добродетелей православной аксиологии хорошо соотносится разработанный в «гуманистической психологии» американского психолога Абрахама Маслоу перечень «бытийных ценностей» («потребностей роста»), относящихся к вершине общеизвестной «пирамиды Маслоу»: истина, добро, красота, жизненность, индивидуальность, совершенство, необходимость, завершенность, справедливость, порядок, простота, полнота, игра, непринужденность, самодостаточность, осмысленность [10, с. 444]. Этот список, вербализующий, в других формулировках, метапотребности (А. Маслоу), высшие формы опыта [9], также находится в отношениях пересечения с искомым перечнем ключевых особенностей русского менталитета и составляет, с одной стороны, органичную часть педагогической лингвистики (как совокупность лексем, подлежащих лингвистической и «общефилологической» методической обработке и учебной презентации), с другой стороны, может полагаться в основу педагогической аксиологии как учения о тех ценностях, формирование которых составляет главную цель воспитательной работы.
По оценкам исследователей, специально рассматривавших вопрос о методически корректном перечне лексем / словосочетаний, универбально фиксирующих особенности русского менталитета, «универсальный» ряд значимых для характеристики национального характера свойств следует использовать в параллели с именованиями свойств, выступающих в русском менталитете как национально специфические : во-первых, это неупорядоченный открытый лексический ряд, включающий именования типа стремление к духовному Абсолюту ( искание абсолютного добра ), совесть , Бог ( религиозность , вера ) и судьба , Родина и патриотизм , способность к высшим формам опыта , душевная чуткость ( задушевность, эмпатия ) и др., во-вторых, общеизвестные «лексические триады» вера , надежда , любовь ; истина , добро , красота ; воля, удаль, подвиг и «лексические диады» истина и правда , судьба и свобода , соборность и коллективизм [5, с. 112–115].
Отталкиваясь от приведенных лексических опор – преимущественно однословных именований важнейших человеческих качеств, связанных с вершинами духовности, – можно строить размышления о русском национальном характере, мотивированные в том числе и текстами художественных произведений. В этом случае обучение русскому языку позволяет за счет специфической филологизации – расширения от лингвометодики к более широкой методике русской словесности – преодолеть принципиальные «интеллектуальные разногласия членов методического сообщества: (1) надо учить русскому языку как языку мысли и общения и (2) надо учить русскому языку как языку, романтически выражающему “народный дух”. <…> Тогда от исходного взаимонепонимания мы придем к успешной научной коммуникации через идеи филологизации (русский язык как язык, романтически выражающий “народный дух”) и интеллектуализации (русский язык как язык мысли и общения)» [14, с. 1278]
Духовный реализм в контексте задач филологизации представлений о русском менталитете
В практике преподавания русской словесности вопросы, связанные с русским национальным характером, как правило, строятся в логике коммуникативного подхода, что соответствует указанному выше «принципу интеллектуализации» обучения («русский язык как язык мысли и общения»). Фактически это вопросы не о собственно менталитете как феномене прежде всего внутренней бессознательной жизни , но – в логике страноведения и межкультурной коммуникации – лишь внешние проявления каких-то скрытых от непосредственного наблюдения особенностей национального характера, иными словами – повседневная жизнь русских в ее наиболее очевидных коммуникативных проявлениях , доступных каждому для непосредственного наблюдения. Это существенные для межкультурной коммуникации страноведческие вопросы, связанные, например, с отношением русских к тем или иным сторонам жизни (к деньгам, доходам и карьере, любви и сексу, возрасту и здоровью, к поведению на работе и в гостях [3]), с коммуникативными стереотипами и традициями поведения в семейных и дружеских отношениях, в школе и университете, в магазине и на транспорте и т. п. [2]. Собственно менталитет в его глубинной духовной составляющей, как бессознательный регулятор внутренней жизни и социальных отношений, оказывается, таким образом, практически вне поля зрения.
Внутренняя, глубинная жизнь личности – предмет исследования «качественной» художественной литературы, а органичная, зачастую скрытая от самого человека религиозность русских как типологическая черта их «внутреннего человека» (апостол Павел, 2 Кор. 4: 16) и ведущая черта русского национального менталитета – предмет специального художественного исследования литературы духовного реализма. Содержательное знакомство с органичной религиозностью русских вне такой литературы представляется практически невозможным.
Думается, не будет большим преувеличением сказать, что классическая литература духовного реализма, в том числе современная, – это литература, за которой будущее, связанное с российским национальным духовно-религиозным возрождением. Нельзя не согласиться с профессором Московской Духовной академии М. М. Дунаевым (1945–2008), чьё шеститомное пособие «Православие и русская литература» ныне суммировано в объемном издании под названием «Вера в горниле сомнений»: «Современное эстетическое освоение бытия отстаёт от потребностей времени. Реалистическое мировидение исчерпало себя. В поисках нового искусство мечется, забредая в тупики постмодернизма. Однако освоение глубин православного миропостижения может ещё подсказать художникам новые, неведомые доселе возможности творческой мысли» [11]. Искусство, с точки зрения его взаимосвязи с религией, делится на две ветви, различающиеся не по эстетическим, стилистическим или языковым основаниям, но по причинам мировоззренческим: это «религиозный и безрелигиозный взгляд на мир вообще и на искусство в частности» [Там же]. Таким образом, специфика литературы духовного реализма – не в особенностях тематики или поэтики, но в мировоззренческой основе. Литературой духовного реализма , по существу, именуется православная традиция в русской литературе , ассоциирующаяся прежде всего с Пушкиным, далее через Гоголя и Достоевского до наших современников – В. Крупина и других православных писателей, в особенности лауреатов Патриаршей литературной премии.
Святитель Феофан Затворник в «кратких поучениях» под названием «Созерцание и размышление» так писал об источниках духовной пищи: «…душе нужен свет небесный – это истина Божия. Обильно предлагается она в Церкви Божией всем желающим внимать, предлагается и в чтении слова Божия, и в проповедях, и в песнях церковных, и во всем устроении и чинопоследованиях церковных, и в писаниях отеческих, и в многих-многих душеспасительных книгах. Желающие обильно черпают здесь свет истины Божией и веселятся под осиянием ее. Но не все же так делают, и не все, что с виду кажется вместилищем истины Божией, в самом деле вмещает ее. Есть люди, которые просиживают дни и ночи над изучением какой-нибудь науки: математики, физики, астрономии, истории и тому подобного, думая, что питают душу истиною, а душа их чахнет и томится, – отчего? Оттого что нет истины там, где хотят найти ее» [16, с. 402–403]. Литература духовного реализма – в ряду возможных источников, приближающих к постижению истины, особенно для людей, далеких от церкви, но тяготеющих к ней.
Художественная литература духовного реализма в контексте «прикладного книговедения»
Применительно к практике преподавания русского языка и литературы в их единстве (то есть к преподаванию русской словесности) в аспекте филологиза-ции как нацеленности на то, чтобы учить русскому языку не только как средству мышления и общения, но и как «языку, романтически выражающему “народный дух”», перед преподавателем неизбежно встают вопросы об отличительных особенностях – условно говоря, об основных «приметах» литературы духовного реализма и о конкретном перечне подходящих книг (авторы, названия произведений), – то есть вопросы книговедческого плана, которые в проекции на задачи преподавания оказываются в контексте «прикладного книговедения» [6].
В прямолинейных формулировках:
-
1. При обращении к русской художественной словесности – «как отличить» литературу духовного реализма от «другой», тоже повествующей о жизни России – прошлой или настоящей, тоже раскрывающей особенности русской ментальности?
-
2. Каков возможный список авторов и названий произведений, которые могли бы рассматриваться как потенциальный объект дальнейших психопедагогических и конкретно-методических усилий по их адаптации к целям преподавания русской словесности в различной аудитории (имеем в виду в том числе и различные регионы России, где русской язык изучается как неродной), в различных типах учебных заведений?
Рассмотрим эти вопросы последовательно.
-
1. О «приметах» художественной литературы духовного реализма в контексте вопроса об особенностях русского менталитета.
-
2. О критериях отбора художественной литературы духовного реализма в целях дальнейшей методической адаптации к задачам преподавания.
В чем существо различия между «обычным» и духовным реализмом? И то, и другое, по известному сверхкраткому определению художественного реализма, – «изображение жизни в формах самой жизни». Русский реализм как в своей классической форме XIX века, так и в последующем вдохновляется секулярными идеями, которые просвечивают «в формах самой жизни» как такого повседневного существования, которое в мироощущении автора и персонажей не связано с – осознаваемым или неосознаваемым – движением человека по пути обóжения и спасения. В основе духовного реализма – сакрально-религиозное представление о тайне человеческого существования, смысл которого – в горней устремленности.
Чтобы пояснить существо этого принципиального различия, вспомним знаменитое напутствие Чехова актерам: «Люди обедают, просто обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни». По секулярным представлениям, «разбиваются их жизни» по причинам психологическим, социальным, политическим, экономическим – каким угодно, кроме… Кроме того, что, по сакрально-религиозным представлениям, «разбивается жизнь» вне благодати Божией, в условиях обезбоженного существования, вне живого богообщения.
Лауреат Патриаршей литературной премии за 2014 год протоиерей Николай Агафонов практически о том же самом пишет так: «…творческая фантазия становится реализмом в художественном произведении лишь когда питается творческой интуицией автора, основанной на жизненной правде», – и, по его же словам, когда эта «творческая фантазия» отражает путь человека к Богу, который «определяется в первую очередь прирожденным человеку свойством тяготения к своему Создателю» [1, с. 9, 7]. Одновременно это путь к целостности «я», к осмысленности и целостности жизни, в единстве ее прошлого, настоящего, будущего и даже посмертного, – в противовес современной тенденции к фрагментарности бытия, ограничивающегося сиюминутным. Литература духовного реализма в этом отношении оказывается в фундаментальной оппозиции гедонистическим установкам современной массовой культуры, возводящей в культ возможность наслаждения сиюминутными земными радостями и в их достижении усматривающей цель человеческого существования.
Не останавливаясь на общем вопросе о тех критериях отбора художественных произведений в целях обучения, которые связаны с соображениями психопедагогической и конкретно-методической целесообразности (бедность / богатство языка, стиль, лингвокультурная / лингвострановедческая и социокультурная ценность и др.), подчеркнём лишь, что главным критерием отбора, специфическим именно для литературы духовного реализма, является то, насколько явственно в ней отображаются традиции православного миросозерцания и насколько однозначно этот фактор подтверждается данными различных экспертных оценок – литературоведческих, культурологических, религиоведческих и иных.
Поскольку систематизированное изложение истории русской литературы XVII–XX веков с позиций Православия подробно представлено в упоминавшейся нами выше фундаментальной работе М. М. Дунаева [11], что позволяет заинтересованному преподавателю русской словесности принимать дальнейшие дидактические решения при наличии аргументированной и авторитетной историко-литературной опоры, рассмотрим только вопрос об отборе современной литературы духовного реализма.
Наиболее, на наш взгляд, авторитетный и не вызывающий сомнений критерий выбора таких современных произведений духовного реализма, в которых органично сочетаются эстетические достоинства и религиозно-этические идеалы, – это Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которая вручается с 2011 года.
Назовём лауреатов и некоторые их произведения.
2011 год – Владимир Крупин, первый лауреат этой премии («Великорецкая купель», «Живая вода», «Сороковой день», «Железный почтальон», «Свет любви» и др.), в произведениях которого – живая вера простых сельских жителей, описания паломничеств в центры христианства, отечественная история и культура, освещаемые сквозь призму Православия.
2012 год – два лауреата: Олеся Николаева, по словам архимандрита Тихона, «первопроходец русской православной прозы» («“Небесный огонь” и другие рассказы», «500 стихотворений и поэм», «Инвалид детства», «Мене, текел, фарес…»), её главные герои – русское духовенство и просто благочестивые люди как герои нашего времени; Виктор Николаев («Живый в помощи. Записки “афганца”», «Из рода в род», «Безотцовщина», «Время подумать о главном»), бывший офицер-афганец, в книгах которого – повествование о самовозрождении человека, оказывающегося в трудных жизненных ситуациях.
С 2013 года премия вручается трем лауреатам.
2013 год: Алексей Варламов (повести «Здравствуй, князь!», «Гора», «Теплые острова в холодном море», многочисленные рассказы), постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей» (биографии М. Пришвина, А. Грина, А.Н. Толстого, М. Булгакова, А. Платонова); поэт, публицист и литературный критик Станислав Куняев – автор публицистического исследования «Жрецы и жертвы Холокоста», изданной в серии «Жизнь замечательных людей книги о Сергее Есенине; поэт, прозаик, публицист и литературовед Юрий Лощиц (книга публицистики «Славянские святцы», изданные в серии «Жизнь замечательных людей книги «Кирилл и Мефодий», «Дмитрий Донской»).
2014 год: протоиерей Николай Агафонов (исторический роман «Иоанн Дамаскин», повести «Стояние», Свет золотой луны», «Да исправится молитва моя», сборники рассказов «Непридуманные истории» и «Отшельник поневоле», в которых открывается совершенно незнакомый обычному читателю мир современного православного духовенства; псковский писатель и литературный критик Валентин Курбатов (книга «Батюшки мои (“Вниду в дом Твой”)» о постсоветской церковной жизни, «Турция. Записки русского путешественника»); Валерий Ганичев (исторические книги «Росс непобедимый», «Русские версты», «Тульский энциклопедист», «Флотовождь», «Державница» и др., включая книгу о причисленном к лику святых великом флотоводце «Святой праведный Феодор Ушаков»).
2015 год: писатель-фронтовик Юрий Бондарев, произведения которого («Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег», «Берег») знакомы многим поколениям советских и российских школьников; поэт Юрий Кублановский, в 1980-х эмигрировавший из СССР, а в 1990-е вернувшийся на Родину и получивший признание российских читателей; прозаик Александр Сегень (сборник рассказов «Рецепт хорошего настроения», роман «Гефсиманский сад», роман и киносценарий «Поп», о судьбе православного священника, служившего в годы войны на оккупированной фашистами территории).
2016 год: литературовед и прозаик, доктор филологических наук Борис Тарасов (историко-публицистические исследования «Россия крепостная. История народного рабства», «“Тайна человека” и тайна истории. Непрочитанный Чаадаев. Неопознанный Тютчев. Неуслышанный Достоевский»); Борис Екимов – «проводник литературных традиций Донского края», как его нередко называют (роман «Родительский дом», сборники рассказов «Родительская суббота» и «Под высоким крестом», повести «Короткое время бородатых», «Пиночет»); священник Николай Блохин (сборник сказок-притч о современных проблемах верующего «Бабушкины стёкла», роман «Пепел», повесть «Избранница»).
2017 год: Виктор Лихоносов (роман о судьбе русского казачества «Наш маленький Париж, Ненаписанные воспоминания», повесть «На долгую память», сборники прозы «Время зажигать светильники», «Записки перед сном», «Тоска-кручина»); Борис Споров (книги о судьбах людей в их взаимосвязи с историей страны «На пути к вере», «Наследники», «Федор», роман «Осада»); протоиерей Ярослав Шипов с его главной темой трагичности бытия русского человека (сборники «Отказываться не вправе. Рассказы из жизни современного прихода», «Первая молитва», «“Райские хутора” и другие рассказы»).
Примерный годовой объем издаваемой в России православной литературы составляет около трех тысяч именований – от святоотеческой, богослужебной и научно-монографической до художественной и публицистической. Поскольку некоторые из таких изданий заслуживают характеристики «псевдоправославие» или «околоправославие», ориентироваться в этом огромном – вполне самостоятельном и, к сожалению, малознакомом «рядовому» современному читателю – мире нужно с большой осторожностью. Полезная ориентировка – указание на обороте титульного листа «По благословению…» (того или иного архиерея) не всегда надежна; более весомо свидетельство на обороте «Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви» с соответствующим регистрационным номером, свидетельствующим о том, что издание прошло в установленном порядке официальное рецензирование и богословскую экспертизу.
Патриаршая литературная премия в ряду свидетельств, «удостоверяющих возможность доверия» к соответствующей литературе именно как к православной, занимает особое место. Эта премия не имеет аналогов ни в истории Русской Православной Церкви, ни в практике других поместных церквей. Ее уникальность в том, что лауреаты – не только церковнослужители, но и «мирские» писатели, литературоведы и историки, чье творчество вдохновляется Православием. Идеи, прямо либо опосредованно объединяющие произведения всех лауреатов и точно отражающие важнейшие особенности русского национального характера в его совершенном выражении (правда, не вошедшие в списки, приведенные нами выше), – это, во-первых, живое ощущение Божьего Промысла (по словам М. М. Дунаева, именно это качество делает литературу духовного реализма особо значимым душеполезным средством: «Вот средство одолеть любые невзгоды, любое отчаяние: осознавать всеместное и всевременное действие Промысла» [11]); во-вторых, живое восприятие жизни как служения – Богу, людям, семье, Отечеству и государству.
Выводы и перспективы
«Ренессанс русской литературы» – так отозвался лауреат 2014 года А. Варламов на признание не только литературной и церковной, но и общенародной значимости произведений «духовного реализма», авторы которых удостаиваются Патриаршей литературной премии. «Появление Патриаршей литературной премии <…> событие оттого отрадное, что оно ставит важный акцент в действительно очень непростых отношениях, сложившихся между Русской Православной Церковью и литературой. <…> в течение всего девятнадцатого века русская литература при всей ее подчеркнутой острейшей религиозной проблематике была поразительно нецерковна по своим темам и героям, а в начале века двадцатого, когда литература в лице Мережковского, Гиппиус, Розанова к Церкви повернулась, то лучше бы она этого не делала. Потом пришли большевики, повернув драматическую коллизию в совершенно иную плоскость <…> но лишь сегодня можно говорить о том, что в диалоге между культурой и культом больше нет посредников» [4]. С окольных безрелигиозных троп, по которым шла русская литература на протяжении всего ХХ столетия – от «серебряного века» до постмодернизма, «неонатурализма» и иных соблазнов эстетизации «человеческого, стишком человеческого» (Ф. Ницше), – на прямую дорогу традиций Гоголя и Достоевского, Лескова и Льва Толстого, что оказывается залогом лингвокультурологической ценности произведения духовного реализма как Книги – с большой буквы [7].
Путь не исканий Бога, но обретения его – живого, в каждом дне своей жизни, – именно так можно, на наш взгляд, охарактеризовать существо пафоса произведений духовного реализма, в особенности современных, именно этим они в первую очередь заслуживают углубленного внимания как ученых, так и преподавателей-практиков, в том числе учителей русского языка и литературы, работающих в общеобразовательных школах. В этом и залог будущего мирового значения современной литературы духовного реализма, как и нашего Отечества и государства, о чем очень точно сказал в одном из своих выступлений Патриарх Кирилл: «Сегодня Отечество наше приобретает все большее значение для всего мира. Вы все читаете газеты, смотрите телевидение, пользуетесь Интернетом, – стало быть, видите, что происходит в мире, когда силой закона, силой власти насаждаются страшные грехи, а люди, которые желают этому противостоять, просто выражая видимым образом свое несогласие, могут быть репрессированы. Такого не было со времен Римской империи, когда репрессировать могли любого, кто не поклонялся идолам. Поэтому все эти новые явления в некоторых странах должны еще и еще раз помочь нам понять, что означала христианская цивилизация для жизни людей, что означает христианская вера для нашего народа» [12].
Список литературы "Ренессанс русской литературы": национальный менталитет и литература духовного реализма в преподавании русской словесности
- Агафонов Н., прот. Три повести. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. 352 с.
- Баско Н. В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян: учеб. пособие по культурологии, развитию речи и чтению для изучающих русский язык как иностранный. М.: Рус. яз. курсы, 2010. 232 с.
- Белянко О. Е., Трушина Л. Б. Русские с первого взгляда. Что принято и что не принято у русских: книга для чтения и тренировки в коммуникации. М.: Рус. яз. курсы, 2008. 80 с.
- Варламов А. Ренессанс русской литературы: Писатель Алексей Варламов о Патриаршей литературной премии //Фома. URL: http://foma.ru/patriarshaya-literaturnaya-premiya.html. (Дата обращения: 19.07.2017.)
- Волков В. В. Проблемы презентации особенностей русского национального характера в преподавании русского языка как иностранного //Язык. Культура. Образование. 2017. № 2. С. 111-117. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_29382550_63367135.pdf. (Дата обращения: 14.07.2017.)
- Волков В. В., Волкова Н. В. «Прикладное книговедение»: проблема отбора художественной литературы в целях формирования профессиональной культуры, профессионализации и профилизации обучения//Педагогика и психология: актуальные проблемы исследований на современном этапе: сб. материалов 6-й междунар. научно-практ. конференции. Махачкала: Апробация, 2014. С. 38-42.
- Волков В. В., Волкова Н. В. Концепт «Книга» в русской лингвокультурологии: аспекты исследования//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 4-2 (46). С. 54-60.
- Волков В. В., Гладилина И. В., Скаковская Л. Н. Литература духовного реализма в преподавании русского языка как иностранного//Казанская наука. 2017. № 1. С. 49-54.
- Гладилина И. В., Усовик Е. Г. Языковая репрезентация концепта Высшие формы опыта в произведениях русской литературы XIX-XXI веков//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 1. С. 135-141.
- Гобл Ф. Третья сила: психология Абрахама Маслоу -новый взгляд на человека (главы из книги)//Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл: Альпина нон-фикшн, 2011. С. 392-463.
- Дунаев М. М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII-XX веках. М.: Изд. совет Рус. Правосл. Церкви, 2003. 1056 с. . URL: https://azbyka.ru/fiction/v-gornile-somnenij/. (Дата обращения: 14.07.2017.)
- Кирилл (Гундяев), Святейший Патриарх Московский и всея Руси. «Они перевернули мир…». Слово в день памяти свв. апостолов Петра и Павла после Божественной Литургии в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга //Вера и время. URL: http://www.verav.ru/common/mpublic. php?num=3329. (Дата обращения: 18.07.2017.)
- Левушкина О. Н. Лингвокультурологические характеристики текста в школьном обучении русскому языку: теория и практика: дис. … докт. пед. наук: 13.00.02/О. Н. Левушкина; Московский пед. гос. ун-т. М., 2014. 543 с.
- Мишатина Н. Л. Русский язык: «игра на понижение», или какому языку мы учим//Динамика языковых и культурных процессов в современной России. 2016. № 5. С. 1275-1280.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ //КонсультантПлюс -надёжная правовая поддержка. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (Дата обращения: 13.07.2017.)
- Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление: Краткие поучения. М.: Правило веры, 2007. 639 с.