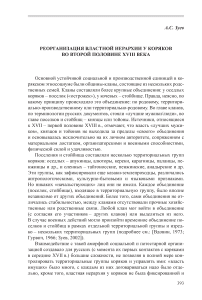Реорганизация властной иерархии у коряков во второй половине XVIII века
Автор: Зуев А.С.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVI, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521660
IDR: 14521660
Текст статьи Реорганизация властной иерархии у коряков во второй половине XVIII века
Основной устойчивой социальной и производственной единицей в корякском этносоциуме были общины-кланы, состоящие из нескольких родственных семей. Кланы составляли более крупные объединения: у оседлых коряков – поселок («острожек»), у кочевых – стойбище. Правда, неясно, по какому принципу происходило это объединение: по родовому, территориально-производственному или территориально-родовому. Во главе кланов, по терминологии русских документов, стояли «лучшие мужики/люди», во главе поселков и стойбищ – князцы или тойоны. Источники, относящиеся к XVII – первой половине XVIII в., отмечают, что власть «лучших мужиков», князцов и тойонов не выходила за пределы «своего» объединения и основывалась исключительно на их личном авторитете, сопряженном с материальном достатком, организаторскими и военными способностями, физической силой и удачливостью.
Поселения и стойбища составляли несколько территориальных групп коряков: оседлых – апукинцы, алюторы, кереки, карагинцы, паланцы, пе-нжинцы и др., и оленных – тайгоносские, пенжинские, анадырские и др. Эти группы, как зафиксировали еще казаки-землепроходцы, различались антропологическими, культурно-бытовыми и языковыми признаками. Но никаких «начальствующих» лиц они не имели. Каждое объединение (поселок, стойбище), входящее в территориальную группу, было вполне независимо от других объединений. Более того, сами объединения не отличались стабильностью, между кланами отсутствовали прочные хозяйственные или родственные связи. Любой клан мог войти в объединение (с согласия его участников – других кланов) или выделиться из него. В случае военных действий могло произойти временное объединение поселков и стойбищ в рамках отдельной территориальной группы и изред-ко – нескольких территориальных групп (подробнее см.: [Вдовин, 1973; Гурвич, 1966; Зуев, 2002]).
Взаимодействие с такой аморфной социальной и потестарной организацией создавало для русских (с момента их первых контактов с коряками в середине XVII в.) большие сложности, не позволяя в полной мере контролировать территориальные группы коряков и управлять ими: «власть имущих» было много, с каждым из них договариваться надо было отдельно, кроме того, властная иерархия у коряков не была фиксированной и меняла свою конфигурацию вследствии того, что в объединениях периодически происходила ротация семей, кланов, стойбищ и поселков. В результате указание центральных властей опираться на «родоплеменную» верхушку не смогло дать должного эффекта. Во многом по этой причине подчинение коряков растянулось на столетие, сопровождаясь их упорным вооруженным сопротивлением. Лишь к концу 1750-х гг. коряки, потерпев поражение и понеся значительные людские и материальные потери, пошли на установление мира с русскими. Русская сторона в свою очередь, отказавшись от военных акций, сделала ставку на мирные способы приведения коряков в подданство, в том числе стала предпринимать усилия по созданию у них «вертикали власти».
Инициатива была проявлена Ф. Х. Плениснером – командиром Анадырской партии, занимавшейся подчинением коряков и чукчей. В 1763 г. он встретился с 11 князцами – главами гижигинских и бывших анадырских (откочевавших на р. Гижигу) оленных коряков и обсудил с ними меры по закреплению коряков в российском подданстве. По итогам переговоров Плениснер назначил «надо всеми аленными и пешими каряками главным кнезцем» «лутчего коряка» Энгеля Лехтелева, а для повышения авторитета князцов и старшин (так Плениснер поименовал «лучших людей») в глазах сородичей и русских, а также «в разсуждении их честолюбия» обещал каждому из них пожаловать шпаги. Показательно, что по этому поводу Плениснер в своем «представлении» сибирскому губернатору Ф. И. Сой-монову сослался на пример с награждением дарственным оружием зайса-нов, тайшей и шуленг забайкальских бурят. [РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. № 528. Ч. 1. Д. 10. Л. 9; Ч. 2. Д. 4. Л. 23 об.–24; № 539. Ч. 2. Д. 3. Л. 2 об.].
Выбор Энгеля Лехтелева в «главные князцы» представляется не случайным. Энгель (в документах встречается разное написание его имени – Эгиля, Эйгель, Эигыл, Энгыль, Этель, Енгель, Энгелы) как князец анадырских оленных коряков и союзник русских фигурировал уже в 1730-х гг. В 1747 г. он со старшим братом Иваком, также князцом, на стороне русских участвовал в боевых действиях против чукчей. В дальнейшем в русских документах чаще упоминается Ивака. В 1749 и 1751 гг. он, как знающий русский язык, сопровождал казаков, посланных для сбора ясака к корякам-алюторам. В 1750-х гг., когда большая часть анадырских коряков подняла восстание и откочевала от Анадырского острога, Ивака и Энгель не были отмечены в числе активных «бунтовщиков», хотя вносить ясак перестали. В 1756 г. Ивака вел переговоры о мире с чукчами, в 1757 г. он прибыл в Анадырский острог для уплаты ясака, а в 1758 г. организовал нападение коряков на чукчей [РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2539. Л. 403 об.–404; Ф. 199. Оп. 2. № 528. Ч. 2. Д. 1. Л. 40–44, 54–57; Д. 3. Л. 12 об.; Д. 7. Л. 16; Д. 9. Л. 30 об., 45–47; Ф. 248. Оп. 4. Кн. 180. Л. 540; Оп. 113. Д. 1552. Л. 238; Ф. 1095. Оп. 1. Д. 2. Л. 387; Д. 24. Л. 5; и др.]. Таким образом, братья Лех-телевы на протяжении длительного времени сохраняли лояльность русской власти и этим выделялись среди других корякских князцов, которые пери- одически впадали в «измену». Ивака, как старший из братьев, выступал в главной роли. Но в начале 1760-х гг. он умер, и его позицию занял Энгель.
Инициатива Ф. Х. Плениснера по времени совпала с кардинальным поворотом правительственной политики в отношении сибирских аборигенов. В 1763 г. был принят ряд законодательных и нормативных актов, которые предполагали реорганизацию порядка сбора ясака: институт ясачных сборщиков упразднялся, практика аманатства отменялась, сбор ясака передавался в руки родоначальников (князцов, тойонов, тайшей, зайсанов и пр.), за исправный платеж ясака стали отвечать не лично ясачноплатель-щики, а целиком податные ясачные единицы – род, улус, волость [Полное собрание, 1830 . Т. 16. № 11749. С. 153–154; Сословно-правовое положение, 1999. С. 69–76; Федоров, 1978. С. 56–58, 115–117, 122–156]. Все это резко ускорило фактическое включение традиционных институтов власти, существовавших у аборигенов, в систему государственного управления и фиска.
31 августа 1764 г. появился указ Сената о назначении Энгеля Лехтелева князцом «коряцкого народа» и о награждении его саблей (вместо шпаги). Согласно указу у коряков планировалось оставить только одного князца: «Всем коряцким лутчим людям тебя (Энгеля. – А. З.) почитать князцом и повеленное тобою к высокой Ея Иимператорскаго Величества службе исполнять неотменно». Поэтому Энгель назван просто «князцом», а не «главным князцом», как предлагал Ф. Х. Плениснер. По этой же, надо полагать, причине дарственное оружие полагалось ему одному. Из смысла указа следовало, что отныне только через Энгеля должно было выстраиваться взаимодействие русской власти и коряков, и именно он должен был обеспечивать исправное поступление ясака со всех коряков [РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. № 528. Ч. 2. Д. 4. Л. 101 об.–102 об.].
Инаугурация Энгеля состоялась в 1766 г. в Гижигинской крепости в присутствии специально приглашенных для этого глав близлежащих корякских поселений и стойбищ. Ему были вручены указ и сабля, специально изготовленная на Тульском оружейном заводе. Ее клинок был из «красного железа» с дарственной надписью на обеих сторонах, а эфес и ножны инкрустированы «серебром с чернью с гербом» [РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. № 528. Ч. 2. Д. 4. Л. 69 об., 101; № 539. Ч. 2. Д. 6. Л. 19; РГВИА. Ф. 14808. Оп. 1. Д. 2. Л. 6]. Изготовление специальной сабли, выступавшей в качестве ин-сигнии, говорит о том, что русская власть серъезно отнеслась к внешнему оформлению властного статуса Энгеля как своего представителя.
В планировавшуюся перестройку властной иерархии у коряков на практике были внесены существенные коррективы. Энгель, судя по ясачным книгам и переписям, считался главным князцом только над оленными гижигинскими коряками. Но помимо него у них в 1766–1767 гг. отмечены еще два князца. В 1776 г. Энгель умер, и на его место русские власти определили его сына Мункегьи. У других территориальных групп оседлых и оленных коряков до конца XVIII в. сохранялись свои князцы и тойоны.
Число последних, однако, начиная с 1760-х гг., сокращается, звание «лучший мужик/человек» вообще исчезает из делопроизводственной лексики [РГАДА. Ф. 1096. Оп. 1. Д. 16. Л. 30–32; Д. 17, 18; Ф. 199. Оп. 2. № 539. Ч. 1. Д. 17. Л. 7–12 об.; Ч. 2. Д. 6. Л. 41, 44, 45, 59, 98об.; Долгих, 1960. С. 557–558; Косвен, 1962. С. 281–288; Гурвич, 1966. С. 109, 111]. Одновременно русская власть из кланов и клановых объединений начинает конструировать новые социальные образование, которые в исследовательской литературе квалифицируются как «административные роды». Их главы именуются старшинами или старостами [РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. № 539. Ч. 1. Д. 17. Л. 7–12 об.; Гурвич, 1966. С. 184, 187; Вдовин, 1973. С. 92–93, 200, 217–219]. К началу XIX в. звания «князцов» и «тойонов» исчезают.
Описанный нами сюжет, совершенно, кстати, не нашедший отражение в историко-этнографических исследованиях, важен для понимания того, каким способом русская власть пыталась реорганизовать властную иерархию, бывшую у коряков, адаптируя ее к своему политическому и налоговому режиму.