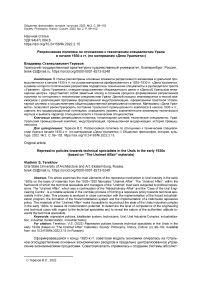Репрессивная политика по отношению к техническим специалистам Урала в начале 1930-х гг. (по материалам «Дела Уралмета»)
Автор: Терехов Владимир Станиславович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные элементы репрессивного механизма в уральской промышленности в начале 1930-х гг. на основе материалов сфабрикованного в 1929-1930 гг. «Дела Уралмета», в рамках которого политическим репрессиям подверглись технические специалисты и руководители треста «Уралмет». «Дело Уралмета», ставшее продолжением «Надеждинского дела» и «Дела об Уральском инженерном центре», представляет собой заметный эпизод в сложном процессе формирования репрессивной политики по отношению к техническим специалистам Урала. Данный процесс анализируется в тесной взаимосвязи с реализацией программы форсированной индустриализации, оформлением советской тоталитарной системы и осуществлением общегосударственной репрессивной политики. Материалы «Дела Уралмета» позволяют реконструировать состояние Уральского промышленного комплекса в начале 1930-х гг., оценить его модернизационный потенциал, определить уровень компетентности инженерно-технического корпуса и выявить характер отношения власти к техническим специалистам.
Репрессивная политика, тоталитарная система, технические специалисты, урал, уральский промышленный комплекс, индустриализация, промышленная модернизация, история промышленности
Короткий адрес: https://sciup.org/149138925
IDR: 149138925 | УДК: 94(47).084.6 | DOI: 10.24158/fik.2022.2.15
Текст научной статьи Репрессивная политика по отношению к техническим специалистам Урала в начале 1930-х гг. (по материалам «Дела Уралмета»)
Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург, Россия, ,
Ural State University of Architecture and Art, Ekaterinburg, Russia, ,
ного контроля во всех сферах жизнедеятельности общества, что стало основанием для складывания тоталитарного государства. Для поддержания социального контроля в таком государстве был создан особый карательный механизм, осуществлявший перманентную репрессивную политику, объектами которой становились самые разные социальные категории населения. Время от времени власть инициировала репрессивные кампании с целью поддержания в обществе атмосферы всеобщего страха и конструирования социальной модели классового противостояния с обязательными атрибутами агрессивности, ненависти и милитаризма.
Модель форсированной индустриализации, которую власть выбрала в качестве флагмана экономического развития, с самого начала столкнулась с серьезными проблемами. Любая масштабная модернизация требует привлечения огромных капиталовложений с большим периодом окупаемости, поэтому модернизационные процессы всегда рискованны и болезненны для общества. Однако в случае с командной моделью экономики социальные издержки чаще всего относятся к факторам, которыми с легкостью можно пренебречь. Более того, подобные факторы даже не учитываются в экономическом обосновании программы модернизации. Это связано, главным образом, с заниженной ценностью человеческого капитала.
Тоталитарная система воспринимает индивида прежде всего с утилитарных позиций. В лучшем случае это необходимый ресурс. В худшем – расходный материал. В модели форсированной индустриализации технические специалисты поневоле сыграли обе эти роли. Начало индустриализационного скачка было немыслимо без интеллектуальной поддержки специалистов дореволюционной инженерной школы, поэтому власть была вынуждена использовать этот ресурс, несмотря на все «недостатки» «буржуазных» специалистов в глазах тоталитарной власти (компетентность, относительная независимость, инициативность). Именно эти их качества и были использованы карательными органами для фальсификации показательных процессов.
Своеобразным сигналом к началу фальсификации региональных процессов стало московское «Дело Промпартии» (Судебный процесс «Промпартии», 2016). Первоначально на Урале был «обнаружен» так называемый Уральский инженерный центр – «контрреволюционная» организация, якобы связанная с Центральным комитетом Промышленной партии. Затем было сфабриковано «Дело Уралмета», в рамках которого «вредительские» группы технических специалистов якобы формировались на конкретных предприятиях одного из крупнейших металлургических трестов Урала.
По «Делу Уралмета» проходили 75 человек, в числе которых, в частности, были главный инженер «Уралгипромеза» и бывший технорук треста «Уралмет» В.П. Крапивин; его заместитель по «Уралмету», впоследствии технорук треста Н.В. Кашакашвили; профессор кафедры черной металлургии Уральского горного института и консультант правления треста «Уралмет» И.А. Соколов; заведующий производственным отделом «Уралмета» В.А. Серебряков; заведующий доменной секцией «Уралмета», затем технорук Нижнесалдинского металлургического завода Н.В. Ордынский; главный инженер доменного производства «Уралмета» А.А. Умов; заведующий лесным отделом «Уралмета», впоследствии главный инженер треста «Ураллес» В.И. Тихачек; заведующий энергобюро «Уралмета» Б.Е. Шалаев; технический руководитель Гороблагодатского рудоуправления Ф.К. Францев1.
Стараниями следователей данное «дело» приобрело разветвленную организационную схему в виде контрреволюционно-вредительского «синдиката», подчинявшегося Уральскому инженерному центру, а через него – Московскому центру Промпартии (Урал в панораме ХХ века, 2000: 229). По замыслу фальсификаторов, этот «синдикат» охватил металлургию, металлообработку, энергетику, лесную и горную промышленность, «курировал» Нижнетагильский, Нижнесал-динский, Кушвинский, Верх-Исетский, Чусовской, Лысьвенский и Златоустовский металлургические заводы2.
Проходившим по «Делу Уралмета» специалистам инкриминировались «дезорганизация как отдельных предприятий и заводов на Урале, так и целых отраслей металлургического хозяйства; дезорганизация производства Надеждинского завода с целью сдачи его в концессию; консервация в интересах бывших владельцев… крупных железорудных месторождений; …вреди-тельская реконструкция предприятий; …задержка строительства новых заводов по всей промыш-ленности»3. Уже в ходе следственных действий появились обвинения в организации диспропорций между отдельными предприятиями, ориентации в ходе реконструкции на иностранное оборудование и даже подготовке иностранной интервенции.
Обвинительное заключение по «Делу Уралмета» содержало описание личного состава и структуры организации, ее политической платформы, методы ее диверсионной деятельности, хронологию ее возникновения. По мнению обвинителей, данная организация «…стремилась сорвать работу заводов черной металлургии, в особенности ее оборонных производств, путем создания резкой диспропорции между добычей руды и ее потребностью, диспропорции в работе доменных, мартеновских и прокатных цехов, диспропорции в топливе, огнеупорах, в заводском транспорте и силовом хозяйстве… Организация применяла диверсионные действия для вывода из строя отдельных агрегатов и силовых установок. Организацией был разработан широкий план диверсионных действий к началу ожидаемой интервенции, по которому намечалось путем вывода из строя военных цехов и других важных агрегатов парализовать уральскую черную металлургию как оборонную базу…»1.
Помимо утилитарных целей, связанных с перекладыванием ответственности за неудачи в индустриализации на мифических вредителей, власть с помощью репрессивной политики создавала вокруг технических специалистов соответствующую психологическую атмосферу всеобщей подозрительности, в которой инженеры сами ощущали себя потенциальными преступниками. В этой связи весьма показательна фраза одного из проходивших по делу инженеров Надеждинского завода: «То, что делал Поносов (осужденный в 1929 г. по «Надеждинскому делу» заведующий доменным цехом. – В. Т. ), делаю и я. Я тоже бракую те же руды и применяю те же способы ведения домен, меня, пожалуй, тоже будут рассматривать как вредителя… Лучше уж быть настоящим вредителем, чем постоянно чувствовать себя таковым»2.
Для «доказательства» контрреволюционных действий в уральской промышленности фальсификаторы не жалели красок. Участникам вымышленной организации инкриминировались вредительство при эксплуатации Гороблагодатских, Высокогорских и Бакальских железных рудников, дезорганизация производства на Надеждинском, Лысьвенском, Чусовском, Кушвинском и Нижнетагильском заводах, задержка капитального строительства на Алапаевском, Нижнесал-динском, Верх-Исетском, Златоустовском, Миньярском, Ашинском и Катав-Ивановском заводах, приостановка реконструкции Тагильской, Кушвинской, Лысьвенской и Златоустовской электростанций, медленное развитие коксовой металлургии и производства высококачественной стали, производственные аварии.
Нетрудно заметить, что все предъявленные обвинения представляют собой описание текущего состояния уральской промышленности со всеми накопленными сложностями старопромышленного региона. Непростые стартовые условия для форсированной индустриализации выражались в слабой ресурсной базе, недостаточной энергообеспеченности, неразвитой транспортной инфраструктуре и других объективных проблемах, на которые, кстати, старые специалисты неоднократно пытались обратить внимание политического руководства. Однако представителям власти проще было указать на вымышленных виновников экономических неудач, чем признаться в собственных просчетах.
По «Делу Уралмета» под судом, состоявшимся 23 июля 1931 г., оказался 31 человек, из которых 16 – были приговорены к десятилетнему заключению в концлагере, 14 – получили пятилетний срок заключения, а в отношении одного подсудимого дело было прекращено. При этом 26 проходивших по делу специалистов вместо заключения в лагере были высланы в различные регионы страны и смогли продолжить работу на производстве3.
Относительную мягкость приговора вряд ли можно квалифицировать как гуманность советского судопроизводства. Скорее всего, на этом витке репрессивной политики власть не преследовала цель уничтожения специалистов, профессионализм которых был необходим при осуществлении программы форсированной индустриализации. Основная миссия карательного механизма заключалась в обеспечении показательности судебного процесса, в достижении необходимого общественного резонанса.
Власти было важно сконструировать в массовом общественном сознании негативный образ инженера-вредителя, установить прочную ассоциативную связь этого образа с реальными и потенциальными провалами в реализации промышленной модернизации. На проходившем в декабре 1930 г. в Свердловске областном слете директоров заводов, инженеров, техников и мастеров тема «вредительства» стала чуть ли не стержневой: «Мы знаем, что деятельность вредителей была направлена в немалой степени, а пожалуй в первую очередь, против идеи создания Большого Урала… Разве Крапивин не пользовался доверием Советской власти… Или Гассель- блат… Этим доверием они злоупотребили… После процесса “промышленной партии”, вредительской партии, для каждого… стало ясно, что классовая борьба в нашей стране… центр своей тяжести перенесла в промышленность…»1.
Политические репрессии инженерно-технической интеллигенции в 1930-е гг. неразрывно связаны с осуществлением сталинской индустриализации. Волнообразный характер советской репрессивной политики зависел от того, какие цели тоталитарная власть преследовала в каждый конкретный момент. Для 1930-х гг. одной из определяющих задач была промышленная модернизация экономики, а основным движителем ее осуществления – инженерно-технические специалисты.
Таким образом, с помощью репрессивной политики по отношению к техническим специалистам власть одновременно решала несколько задач. Во-первых, конструирование мифических «вредительских» организаций в промышленности существенно облегчало обоснование неизбежных провалов в реализации форсированной индустриализации. Во-вторых, объявление технических специалистов «контрреволюционерами», «диверсантами», «врагами народа» и «вредителями» позволяло власти поддерживать тезис об обострении классовой борьбы в процессе социалистического строительства. В-третьих, активизация репрессий в индустриальной сфере являлась частью постоянно расширяющейся общегосударственной репрессивной политики, которая выступала неотъемлемым атрибутом сформировавшейся тоталитарной системы.
Список литературы Репрессивная политика по отношению к техническим специалистам Урала в начале 1930-х гг. (по материалам «Дела Уралмета»)
- Судебный процесс "Промпартии" 1930 г.: Подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. М., 2016.
- Урал в панораме ХХ века / гл. ред. В.В. Алексеев. Екатеринбург, 2000. 496 с.