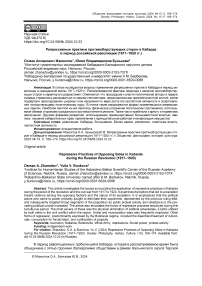Репрессивные практики противоборствующих сторон в Кабарде в период российской революции (1917-1920 гг.)
Автор: Жанситов О.А., Бунькова Ю.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются вопросы применения репрессивных практик в Кабарде в период революции и гражданской войны 1917-1920 гг. Рассматриваются факторы перехода к насилию противоборствующих сторон и характер его разрастания. Отмечается, что пришедшие к власти политические акторы в первую очередь стремились расправиться со своими оппонентами, представленными прежней властной элитой, затем подвергали преследованию широкие слои населения по мере роста его протестной активности и сопротивления господствующему политическому курсу. В статье также раскрываются формы применявшихся репрессивных практик. Наиболее жесткой из них являлось физическое устранение политических противников, используемое обеими сторонами гражданского противостояния в регионе. Также часто прибегали к аресту и тюремному заключению. Другими формами репрессий, используемыми преимущественно большевистской властью, явились: лишение избирательных прав, привлечение к принудительным работам и конфискация имущества.
Революция, кабарда, большевики, белая армия, репрессии, советская власть, протестная активность
Короткий адрес: https://sciup.org/149147035
IDR: 149147035 | УДК: 94(470.6) | DOI: 10.24158/fik.2024.10.23
Текст научной статьи Репрессивные практики противоборствующих сторон в Кабарде в период российской революции (1917-1920 гг.)
области, насилие использовалось противоборствующими сторонами как инструмент достижения политических целей. В то же время применение репрессий выступало фактором неустойчивости практикующих их режимов, поскольку вызывало широкую протестную активность.
Советская историография акцентировала внимание на насилии, исходящем в основном со стороны антибольшевистских сил, в описании которых часто использовалась эмоциональная стилистика: «зверства белогвардейцев», «палачи трудового народа» и т. д. (Гугов, 1975: 359– 368). Масштабы же и характер репрессивных действий большевиков в отношении их противников не нашли адекватного отражения в работах советского периода (Коренев, 1967; Янчевский, 1927; Буркин, 1932). Упоминавшиеся фрагментарно, они объяснялись необходимостью защиты достижений революции от посягательств «контрреволюционеров», в то время как насилие со стороны последних интерпретировалось исключительно как стремление «свергнутых классов» восстановить свои утраченные привилегии (Улигов, 1979: 131–146).
В современной российской историографии репрессивная политика противоборствующих сторон в Кабарде, за исключением отдельных работ, не стала предметом пристального внимания (Жанситов, 2005). Исследования данной проблематики в границах всего Северо-Кавказского региона, касаясь непосредственно Нальчикского округа, ограничивались лишь упоминанием уже известных фактов белого террора, почерпнутых из старых советских работ (Дзидзоев, 2000; Ратьковский, 2014). Тем не менее проблема красного террора была все же затронута, но уже в контексте исследования сталинских репрессий, что выходит за хронологические рамки данной статьи (Боров и др., 1999).
Исходя из вышесказанного, нашей задачей стало преодоление дисбаланса, сложившегося в освещении проблем насилия в годы революции и гражданской войны в Кабарде. Репрессивные практики применялись всеми акторами противостояния – как большевиками, так и их противниками. Соответственно, сосредоточение исследовательской оптики на указанной проблематике будет способствовать выстраиванию объективной, многомерной картины событий революционного периода в регионе.
В начале марта 1918 г. на съезде народов Терека в Пятигорске была провозглашена советская власть в Терской области. В Кабарде в это время продолжала функционировать сформированная после Февральской революции администрация – Нальчикский окружной гражданский исполнительный комитет, которая не признавала власти большевиков, однако не имела реальных возможностей противодействовать ее утверждению на своей территории. Поэтому здесь 21 марта 1918 г. в ходе заседаний Народного съезда при поддержке большевиков была провозглашена советская власть. В эти же дни был образован Нальчикский окружной народный совет, в состав которого вошли местные крестьянские активисты и представители большевистской организации Терской области. Это событие имело фоном относительно мирную обстановку и не встретило в первое время организованного сопротивления прежней социально-политической элиты. Соответственно, советским властным структурам не пришлось прибегать к широким репрессивным практикам для «защиты революционных завоеваний». Как отмечал очевидец тех событий К. Чхеидзе, «уже из того, что большевики не послали в Кабарду карательные отряды, а послали делегатов, что ни в Нальчике, ни в селах не применялся террор, можно заключить, что в отношении Кабарды коммунисты видоизменили свои действия. Большевизация Кабарды проходила спокойней, нежели в других местах области» (Чхеидзе, 2008: 43).
Тем не менее репрессивный вектор взаимодействия новой власти с политическими оппонентами и социально чуждыми большевизму сегментами кабардинского общества обозначился довольно быстро. Он выражался прежде всего в ущемлении политических и экономических позиций прежней элиты и нейтрализации очевидных оппозиционеров советской власти.
В первую очередь преследованию подверглись офицеры Кабардинского конного полка и других соединений распавшейся царской армии, которые после прихода большевиков к власти в октябре 1917 г. нашли убежище в Кабарде. Они разоружались и по большей части заключались под стражу в Нальчикскую тюрьму1. Пострадали также представители высших сословий и буржуазии, которые лишались избирательных прав, облагались специальным налогом на содержание общественных заведений и теряли права собственности в результате национализации торговых заведений, транспорта, промысленных предприятий и жилого фонда2.
Репрессивные практики в первые дни советской власти носили ограниченный характер, поскольку коснулись численно незначительной прослойки населения Кабарды. Однако по мере реализации советских преобразований, в частности, Декрета о земле, они стали затрагивать не только сословную и политическую элиту, но и численно доминировавший средний класс, который в Ка-барде был представлен в основном зажиточным крестьянством. Сопротивление частновладель-цев мероприятиям по конфискации их земельных участков вызывало ответные меры стороны советской власти, которые сопровождались посылкой в селения вооруженных отрядов и арестом «бунтовщиков». Отряды красноармейцев также были задействованы при сборе налогов и недоимок с населения, которое, к тому же, должно было нести расходы на содержание этих отрядов1.
Недовольство, обусловленное силовыми методами большевиков, приобретало угрожающие масштабы. Власти же, вместо поиска компромиссов, шли на усугубление ситуации, объявляя участников протестов «врагами трудового народа», то есть придавали их выступлениям политический оттенок. Соответственно, сельчане, не желавшие расставаться со своей собственностью, попадали в разряд «контрреволюционеров», разбором дел которых занимался созданный 11 мая 1918 г. Военно-революционный трибунал Нальчикского округа, выносивший суровые приговоры. Под его действие подпадали также и явные политические противники большевиков, которые вели диверсионную работу, совершали покушения на советских работников и вступали в вооруженные столкновения с красноармейскими отрядами. Наиболее ярким эпизодом их деятельности в этот период было убийство комиссара Нальчикского округа А. Сахарова, что явилось поводом для эскалации насилия в регионе. Здесь было введено военное положение, создан наделенный чрезвычайными полномочиями Штаб охраны2. В его состав были включены усиленные вооруженные отряды, проводившие обыски и аресты подозрительных и неблагонадежных лиц как в самом Нальчике, так и в близлежащих селениях.
Как можно предположить, действия Штаба охраны не носили адресный характер и затрагивали широкие слои населения, поскольку поиск и задержание контрреволюционеров часто выливались в масштабную силовую операцию: красноармейский отряд окружал селение, проводил обыск домовладений, открывал огонь в случае сопротивления и т. д.
В работе современника и очевидца событий рассматриваемого периода в Нальчикском округе К. Чхеидзе довольно ярко передается царившая здесь атмосфера: «Городская тюрьма постепенно наполнялась. Арестованных оправляли в Пятигорск и Владикавказ. Но кто мог поручиться, что все отправленные достигали места назначения? Во время революции нет ничего проще, чем разрядить винтовку во вражеский затылок. Из аулов доходили сведения о насилиях, чинимых красноармейцами; на город была наложена контрибуция, на целый ряд лиц коммунисты откровенно охотились. Ходили темные слухи, что в городе существует ЧК, работающая тайно. Никто не жил в уверенности в завтрашнем дне. Метод коммунистического управления состоял в том, что они запугивали массы и изымали из оборота тех, кто им казался опасным. Застращать массы и истребить тех, кто может поднять массы против коммунистов – в этом заключалась их цель. Одну часть кабардинского духовенства они привлекли на свою сторону. Другую – большую – они подвергли репрессиям. С помощью наемных и добровольных войск они держали в повиновении город и аулы, устраивали обыски, реквизиции и облавы» (Чхеидзе, 2004: 199, 200).
Репрессивные практики, приобретавшие все более радикальный характер и вызывавшие недовольство широких слоев населения, спровоцировали переход протестной активности в формат вооруженной борьбы с советской властью. Ее организовал и возглавил в августе 1918 г. бывший офицер Кабардинского полка Кавказской конной туземной (дикой) дивизии З. Даутоков-Се-ребряков. Ему удалось сформировать конную бригаду и к началу октября 1918 г. освободить территорию Кабарды от красноармейских отрядов, а также занять Нальчик.
Однако власть З. Даутокова-Серебрякова в Нальчикском округе продержалась недолго. Уже в начале ноября под напором превосходящих большевистских сил ему пришлось отступить на Кубань, где его войско влилось в состав армии А. Деникина.
В Кабарде же, вновь оказавшейся под властью большевиков, начался новый виток насилия, приобретавший порой характер мести и произвола по отношению к оставшимся участникам «контрреволюционного переворота», а также к явным и вероятным противникам советской власти. Лидер местных большевиков Б. Калмыков, совмещавший должность чрезвычайного комиссара Терской области, обратился с воззванием к населению Нальчикского округа, в котором, по сути, дал санкцию на жесткое преследование своих политических оппонентов: «Волею российского пролетариата контрреволюция, душившая трудовой народ, подавлена. Очищайте свои ряды от контрреволюционеров. Арестовывайте и доставляйте их в Нальчик! Врагам трудового народа нет места среди нас! Пусть в вашем сердце не говорит жалость к ним!»3.
Органы власти Кабарды не замедлили с претворением в жизнь «воззвания» Б. Калмыкова. 09 декабря 1918 г. Нальчикский окружной народный совет специальным указом обязал сельских комиссаров составить списки контрреволюционеров на подведомственной им территории. Помимо активных участников антибольшевистского движения в эти списки включались лица, оказывавшие им какую-либо материальную помощь и просто «сочувствующие»1. Критерии занесения в разряд «контрреволюционеров» были достаточно широкими и не всегда предполагали наличие доказательной базы. «Сочувствующим контрреволюции» мог быть признан случайный сельчанин, например, просто на основании доноса его соседа-недоброжелателя.
Составленные списки передавались на рассмотрение революционного трибунала. Возглавивший его в декабре 1919 г. Г. Русаков так описывал его деятельность: «Работали много, даже ночью. Судили злостных врагов, крепко. Значительное число прошло через наши приговоры се-ребряковцев (участников движения З. Даутокова-Серебрякова), прошли через наши приговоры и офицеры, которые были с Корниловым на Кубани»2.
Некоторые сведения о репрессивной политике советской власти в Кабарде, в частности, в ее административном центре ‒ слободе Нальчик, содержатся в материалах образованной А. Деникиным «Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков», которая собирала показания жителей и потерпевших на занятых Добровольческой армией территориях. По итогам следственных действий в Нальчике члены комиссии составили следующий отчет. «Большевики-коммунисты распоряжались в слободе Нальчик Терской области в течение двух последних месяцев 1918 г., когда из слободы ушел партизанский отряд полковника З. Даутокова-Серебрякова. Этого времени было достаточно для большевиков, чтобы применить к жителям те методы управления, которые были так характерны для советской власти. Прежде всего они разогнали местное слободское правление и поставили своих комиссаров. Составили список состоятельных людей Нальчика, на которых хотели наложить контрибуцию в 1,5 млн руб., 10 человек посадили в тюрьму в качестве заложников до уплаты контрибуции, однако спустя время их выпустили. Впоследствии большевики прибегали к реквизиции. Кроме того, производили обычные обыски, были и расстрелы. Когда среди красноармейцев началась эпидемия тифа, то так называемых буржуев, то есть наиболее богатых людей, заставили рыть могилы, а женщин интеллигентного и состоятельного класса мобилизовали ухаживать за больными, исполнять тяжелые и грязные работы. При отказе от них били плетьми и угрожали винтовками»3.
В январе 1919 г. разбором дел «контрреволюционеров» начало заниматься Нальчикское отделение Терской областной Чрезвычайной комиссии (ЧК). Просоветские власти Кабарды предписали ему вести «следствие и разбор политических дел заключенных», содержащихся в местной тюрьме и «вообще повести самую интенсивную борьбу с контрреволюцией»4.
Однако местная ЧК не успела широко развернуть свою деятельность. Уже в конце января 1919 г. Нальчикский округ заняли части Добровольческой армии А. Деникина. Его режим, продержавшийся в Кабарде около года, также характеризовался применением репрессивных практик в отношении противников белой власти. В советской историографии масштабы репрессий в Нальчикском округе в период деникинского режима были в определенной мере преувеличены. При этом имели место случаи подтасовки фактов, когда белогвардейским отрядам приписывались «злодеяния», в действительности совершенные вооруженными формированиями, не имевшими к ним отношения (Улигов, 1979: 137).
Тем не менее населению Нальчикского округа, как и жителям других российских территорий, занятых Белой армией, довелось испытать жесткость репрессивной политики деникинской администрации. Первыми ее жертвами стали наиболее заметные деятели советской власти в Нальчикском округе. Военно-полевым судом смертный приговор был вынесен и приведен в исполнение в отношении Окружного военного комиссара Д. Видяйкина, заместителя председателя Нальчикского окружного исполкома Т. Уначева, командира красногвардейской сотни Л. Блаева и ряда других лиц. Также имели место случаи расправы над членами семей активных участников революционного движения в Кабарде, которым удалось скрыться от преследований (Улигов, 1979: 226).
Назначенный А. Деникиным на должность правителя Кабарды генерал Т. Бекович-Черкас-ский инициировал рассмотрение вопросов борьбы с большевизмом на Народном съезде, что должно было продемонстрировать весомость и широкую поддержку принимаемым решениям. В ходе заседаний этого съезда, который состоялся в апреле 1919 г., «вне закона» были объявлены 26 наиболее активных участников большевистского движения, скрывавшихся за пределами
Нальчикского округа. В отношении 36 «работников среднего звена» возбуждены уголовные дела. В то же время было решено, что те из них, кто добровольно вернется в свои села, смогут избежать преследования (Жанситов, 2009: 79).
Ключевую роль в борьбе с большевистским подпольем играла действовавшая в Нальчикском округе белогвардейская контрразведка. Ее агентам удавалось выявлять и задерживать большевиков далеко за пределами Кабарды и доставлять их в Нальчик для передачи в ведение военно-полевого суда.
Деятельность контрразведки и трагическую судьбу ее жертв описал в своих мемуарах нальчикский революционер М. Заципилин: «Белая контрразведка рылась по ближайшим городам, выискивая коммунистов Кабарды. Так, офицером контрразведки Покровским был опознан во Владикавказе член Нальчикского окружного народного Совета большевик А. Шевцов и в феврале 1919 г. там же расстрелян. Контрразведчица У. Реутова в начале июня 1919 г. в городе Георгиевск опознала политического комиссара товарища Видяйкина, пробиравшегося в сторону Минеральных Вод на паровозе под видом помощника машиниста. Товарищ Видяйкин был схвачен, доставлен в Нальчик, где и был повешен. Белая контрразведка взаимодействовала с английской. Так, летом 1919 г. англичане арестовали в Азербайджане жителя Нальчика, коммуниста Ивана Бутова. Вскоре ими был также обнаружен и расстрелян нальчикский большевик П. Карпинский»1.
Однако ликвидация и изоляция наиболее видных борцов за советскую власть не способствовали упрочнению деникинского режима в Кабарде. Проводившиеся здесь белой властью мероприятия, заключавшиеся в возвращении национализированной большевиками собственности прежним владельцам, сборе недоимок прошлых лет, налогов и всевозможных податей, мобилизации в Добровольческую армию и реквизиции продовольствия на нужды фронта, начали вызывать недовольство и сопротивление значительной части населения.
В этих условиях на территории Нальчикского округа из местных жителей были сформированы краснопартизанские отряды, которые занимались диверсионной деятельностью, а также участвовали в крупных столкновениях с регулярными частями деникинской армии. В ответ белая власть усилила и масштабировала репрессивные практики. В селения, где была замечена активность большевиков, направлялись экспедиционные отряды, проводились обыски и аресты скрывающихся членов партизанских отрядов. В некоторых случаях жителям селения под угрозой применения военной силы предлагалось выдать всех скрывавшихся большевиков, сделать опись имущества бежавших, продать его с аукциона, а вырученные средства передать в казну Нальчикского округа (Улигов, 1979: 235).
Подобная политика деникинской администрации обрушила его популярность в Кабарде и в целом в Терской области даже у прежде лояльных слоев населения. Необходимость затрачивать громадные ресурсы на подавление повстанческого движения ослабила Добровольческую армию перед наступающими на регион красноармейскими частями и в итоге привела к ее развалу.
Таким образом, в условиях революции и гражданской войны в Кабарде, провоцировавших хаотизацию всех сфер жизни общества, политические акторы обеих сторон прибегали к насилию как к эффективной мере, способной стабилизировать ситуацию и упрочить свою власть. Однако репрессивные практики не давали желаемого результата и, напротив, обуславливали снижение до критического уровня народной поддержки стоящих у власти сил, чем в конечном итоге в ряду прочих факторов предопределяли их смещение с политической сцены. Так произошло с властью большевиков в начале 1919 г. и с деникинским режимом в марте 1920 г.
Список литературы Репрессивные практики противоборствующих сторон в Кабарде в период российской революции (1917-1920 гг.)
- Боров А.Х., Думанов Х.М., Кажаров В.Х. Современная государственность Кабардино-Балкарии: истоки, пути становления, проблемы. Нальчик, 1999. 184 с.
- Буркин Н.Г. Октябрьска революция и гражданская война в горских областях Северного Кавказа // Революция и горец. 1932. № 10-12. С. 34-49.
- Гугов Р.Х. Совместная борьба народов Терека за советскую власть. Нальчик, 1975. 495 с.
- Дзидзоев В.Д. Белый и красный террор на Северном Кавказе в 1917-1918 гг. Владикавказ, 2000. 176 с.
- Жанситов О.А. Антибольшевистское движение и деникинский режим в Кабарде и Балкарии. Нальчик, 2009. 151 с.
- Жанситов О.А. Противоправные действия советской власти в Кабарде и Балкарии в годы Гражданской войны (19181920) // Исторический вестник. 2005. № 2. С. 218-238.
- Коренев Д.З. Революция на Тереке. Орджоникидзе, 1967. 355 с.
- Ратьковский И.С. Северо-Кавказский белый террор летом - осенью 1918 г. // Юрист-Правовед. 2014. № 2 (63). С. 102-107.
- Улигов У.А. Социалистическая революция и гражданская война в Кабарде и Балкарии и создание национальной государственности кабардинского и балкарского народов (1917-1937 гг.). Нальчик, 1979. 356 с.
- Чхеидзе К.А. Генерал Заурбек Даутоков-Серебряков. Гражданская война в Кабарде. Нальчик, 2008. 120 с.
- Чхеидзе К.А. Страна Прометея. Нальчик, 2004. 262 с.
- Янчевский Н.Л. Гражданская война на Северном Кавказе: в 2 т. Ростов н/Д., 1927. Т. 1. 208 с.