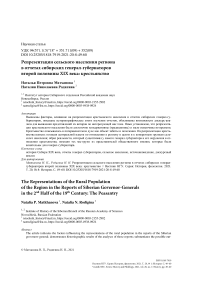Репрезентации сельского населения региона в отчетах сибирских генерал-губернаторов второй половины XIX века: крестьянство
Автор: Наталья Петровна Матханова, Наталия Николаевна Родигина
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Выявлены факторы, влиявшие на репрезентации крестьянского населения в отчетах сибирских генерал-губернаторов, показаны историографические итоги изучения отчетов, обоснованы возможности дискурс-анализа для выявления представлений их авторов по интересующей нас теме. Нами установлено, что репрезентации крестьянского населения были достаточно консервативны (традиционны) и мало изменчивы во времени. Крестьянство описывалось в патерналистском духе как объект заботы и попечения. На репрезентации крестьянства влияли: позиция центральной власти по отношению к региону в целом и к конкретным группам сельского населения; образ реальности, который существовал у самого генерал-губернатора и его окружения в отношении крестьянства; позиция тех мы-групп из представителей общественного мнения, которые были влиятельны для генерал-губернатора.
История Сибири XIX века, отчеты генерал-губернаторов, сельское население, источниковедение, дискурсный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/147234669
IDR: 147234669 | УДК: 94(571.1/.5)"18" + 351.711(09) + 352(09) | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-8-49-60
Текст научной статьи Репрезентации сельского населения региона в отчетах сибирских генерал-губернаторов второй половины XIX века: крестьянство
Matkhanova N. P., Rodigina N. N. The Representations of the Rural Population of the Region in the Reports of Siberian Governor-Generals in the 2nd Half of the 19th Century: The Peasantry. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2021, vol. 20, no. 8: History, pp. 49–60. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2021-20-8-49-60
Всеподданнейшие отчеты сибирских генерал-губернаторов были важнейшим каналом связи с центральной властью. Их структурному и содержательному анализу были посвящены наши предшествующие статьи [Матханова, Родигина, 2019а; 2019б]. В них рассматривались источниковая специфика генерал-губернаторских отчетов и образ Сибири, который в них конструировался. В данной публикации мы стремимся выявить особенности дискурса о сельском населении края. С нашей точки зрения, это поможет расширить представления о факторах, определявших модели репрезентации населения региона представителями высших ступеней административной вертикали; понять, почему авторы отчетов писали так, а не иначе, что формировало контекст высказываний и кто был их идеальным адресатом. В конечном же счете – позволит точнее выяснить суть взаимодействия центральных и местных властей в формировании региональной политики. Мы опираемся на отчеты, докладные записки и обозрения сибирских генерал-губернаторов с начала 1850-х гг., когда статус региона стал предметом обсуждения во Втором Сибирском комитете и других правительственных учреждениях, и до времени упразднения Западно-Сибирского (1882) и Восточно-Сибирского (1887) генерал-губернаторств. В отдельных случаях для выяснения эволюции взглядов глав сибирской администрации мы обращаемся к отчетам иркутских генерал-губернаторов 1887–1899 гг.
В статье представлен анализ дискурса отчетов об основной части сельского населения – крестьянстве. Инородческое и другие группы сельского населения станут предметом особой статьи.
На сегодняшний день существуют работы, посвященные характеристике в отчетах губернаторов и генерал-губернаторов отдельных категорий населения региона рассматриваемого нами периода: уголовных [Хламова, 2010] и политических [Иванов, Курас, 2019] ссыльных; городского населения Восточной Сибири в целом [Кискидосова, 2016] и его отдельных категорий – чиновничества [Матханова, 2002], купечества [Комлева, 2018] и т. д. В них показана репрезентативность сведений о численности и составе той или иной группы населения, позиция конкретных генерал-губернаторов по отношению к экономическому и социальному статусу описываемых социальных групп, исторический контекст актуализации в отчетах вопросов об уголовной, политической ссылке, переселенческой политике и др. Мы сознательно не привлекаем работы по социальной истории и исторической демографии, в которых давались характеристики населения Сибири и отдельных его категорий.
Мы ставим перед собой иную задачу – выяснить паттерн описания сельского населения региона, в существенной степени детерминирующий их содержание и заданный формулярами губернаторских отчетов, текущей нормативно-правовой документацией, неформальными традициями создания такого рода текстов, а также выявить факторы, которые предопределяли его эволюцию.
Ближе всего к нашему замыслу статья А. С. Маджарова и Е. Л. Пономаревой [2015], в которой содержатся отдельные наблюдения о репрезентациях населения и некоторые сведения о бытовых аспектах жизни сословных и этноконфессиональных групп в отчетах восточносибирских генерал-губернаторов. Однако предметом анализа стали отчеты глав одного генерал-губернаторства, кроме того, характеристика представлений о населении - один из многих сюжетов, поднимаемых в тексте, и рассмотрен достаточно бегло.
Для понимания контекста конструирования образов крестьянства Сибири в отчетах мы обращались к работам, посвященным как проблемам формирования региональной идентичности, так и эволюции представлений о сибиряках в общественном мнении и массовом сознании второй половины XIX в. Нам представляется важным наблюдение Е. Е. Дутчак, В. В. Кашпура [2013] о существовании, в том числе и в интересующий нас период, двух типов сибирского мифа, воплощающих бинарную идентификационную модель, которая включает противоположные нарративы, сконструированные разными «мы-группами» и предназначенные для разных адресатов. Первый интерпретирует Сибирь как стратегический (в том числе человеческий) потенциал / запас России, будущую «ось» мировой истории. Второй описывает регион как территорию бюрократического произвола и крайне низкого уровня жизни; она не имеет шансов органично включиться в мировые процессы и всегда будет рассматриваться Центром как колония.
Наши выводы, сделанные на основе анализа русской журнальной прессы второй половины XIX - начала ХХ в. (см., например, [Родигина, 2006]), совпадают с мнением других авторов [Анисимов, 2004; Жигунова и др., 2014; Ремнев, 2011; Тюпа, 2002] о том, что взрыв интереса к Сибири и ее населению у русской образованной публики приходится на первые десятилетия XIX в. и связан с художественным, публицистическим и научным творчеством политических ссыльных и областников. К названным факторам пробуждения интереса к региону и его жителям можно добавить ревизию и реформирование управления Сибири М. М. Сперанским, энергичную деятельность Н. Н. Муравьева, создание и функционирование Первого и Второго Сибирских комитетов. Имея в виду, что взгляды политссыльных и областников на население региона детально рассмотрены нашими многочисленными предшественниками, как и представления верховной власти в центре и на местах о статусе Сибири в административной политике и геополитических стратегиях государства, зафиксируем основные характеристики сибиряков, отмечавшиеся в разножанровых текстах современников, конструировавших дискурс о населении региона в общественном мнении Российской империи изучаемой эпохи: социально-психологические (чувство собственного достоинства, более очевидное, чем у жителей европейской части страны; предприимчивость, индивидуализм, противопоставлявшийся общинному коллективизму крестьян Европейской России); социокультурные (этническая и религиозная толерантность; восприимчивость к культурным заимствованиям; осознание культурных отличий от «расейских»); антропологические (формирование особого антропологического типа «русской народности» в результате смешанных браков с аборигенным населением) и т. п. (см. [Жигунова и др., 2014, с. 49-54] и др.).
Одним из отправных методов для нас стал дискурсный анализ текстов отчетов. Нам представляется продуктивным тот его вариант, который разработан французскими гуманитариями: М. Фуко, М. Пеше, П. Серио. Вслед за Фуко мы понимаем под дискурсом совокупность высказываний, подчиняющихся одной и той же системе формирования [Фуко, 2004, с. 210]. Мы разделяем наблюдения М. Пеше о том, что «дискурс всегда соотносится с “уже сказанным” и “уже услышанным”... в политической борьбе, например, нельзя выбрать свое собственное поле деятельности, свои собственные темы и даже свои собственные слова» (цит. по: [Серио, 1999, с. 21]). В данном случае предметом дискурсного анализа являются отчеты генерал-губернаторов, являющиеся одной из разновидностей текстов, «наделенных исторической, социальной, интеллектуальной направленностью и произведенных в институционных рамках, которые накладывают сильные ограничения на акты высказывания… Корпус текстов при этом рассматривается не сам по себе, а как одна из частей признанного социального института, который “определяет для данной социальной, экономической, географической или лингвистической сферы условия действия актов высказывания”» [Серио, 1999, с. 10]. В соответствии с этим для нас важно установить не только авторство текстов, их адресат (что отчасти уже сделано нашими коллегами и нами), выявить контекст их актуализации, но и сопоставить с другими современными отчетам дискурсами о населении (публицистическими, научными, мемуарными).
Как было отмечено ранее (см. [Иванов, Курас, 2019, с. 101, 105–107; Пономарева, 2008, с. 113] и др.), отчеты – продукт коллективного авторства. Степень авторского участия генерал-губернаторов в создании отчетов была различной. В создании отчетов принимали участие: имперские эксперты на местах – чиновники и офицеры, принимавшие участие в сборе и обработке исходных материалов; губернаторы, аккумулировавшие эти сведения и транслировавшие их генерал-губернаторам; генерал-губернаторы, во всяком случае те из них, кто принимал более или менее деятельное участие в создании отчетов; император, делавший на них свои пометы; представители заинтересованных министерств и ведомств, готовившие ответы «по высочайшим замечаниям». Очевидно также, что император и руководители министерств и ведомств, главы комитетов и комиссий, Генштаба, деятельность которых была связана с регионом, были идеальными и реальными читателями отчетов. Читали отчеты и приближенные к главам местных администраций – и во время подготовки документов, и при обсуждении ответов на поступавшие из центра отклики на отчеты. Воспоминания Б. А. Милютина содержат подробное описание механизма работы Н. Н. Муравьева-Амурского над официальными документами. Так, описывая свою работу над проектом «Положения об управлении ссыльными», Милютин замечал, что ему сначала были Муравьевым даны общие указания, потом он делал доклады генерал-губернатору, а когда «все предварительные работы были окончены, заготовлены надлежащие бумаги и пояснительные записки… я удостоился последнего доклада… Я готовился поочередно читать графу все подготовленное. Он выслушал лишь препроводительную бумагу и, расчеркнувшись под нею, обратился ко мне… А уж это-то… я подпишу, не читая» (Милютин, 1998, с. 240–242). Другой мемуарист, И. Ф. Бабков, начальник штаба Омского военного округа, первый председатель ЗСОРГО, восхищался способностью генерал-губернатора Н. Г. Казнакова привлечь «знающих людей». Он писал: «Это был человек, обладавший возвышенным образом мыслей, редким тактом и умением окружить себя талантливыми сотрудниками. Замечательно ясный ум, которым обладал Казнаков, его редкие дарования, приятные манеры, быстрота соображений, находчивость, так и знание света давали ему возможность скоро ориентироваться в самых разнообразных сферах деятельности. Доклады, которые мы имели у Казнакова, были для всех нас в высшей степени поучительны. Во время этих докладов, приобретался навык и усваивался правильный и закономерный взгляд на процедуру рассмотрения и решения дел… Из всех генерал-губернаторов Западной Сибири Казнаков более других понимал, что правильное воздействие на эту страну только тогда может быть плодотворным, когда она будет хорошо исследована и изучена» (Бабков, 1912, с. 556–558).
Представляется важным, что в числе экспертов, в той или иной степени причастных к созданию отчетов, были члены разных общественных организаций, прежде всего, отделений Русского Географического общества (далее РГО). На сотрудничество администрации и членов РГО (многие из них входили в число деятелей администрации) уже не раз указывалось [Матханова, 1998, c. 148–149; Игумнов, 2017; Капустюк, Кузнецов, 2018]. В научных обществах, в том числе в РГО, в тесной связи с правительственными структурами формировались экспертные группы ученых, обслуживавших правительственную политику [Ремнев, 2015, с. 24]. В 1890 г. чиновники составляли почти треть членов Отдела, а в 1899 г. ими было 76,5 % членов распорядительного комитета [Капустюк, Кузнецов, 2018, с. 17]. В разные годы активную роль играли Ю. И. Штубендорф, А. Ф. Усольцев, Б. А. Милютин, Р. К. Маак,
-
В. Л. Приклонский, Б. К. Кукель, А. С. Сгибнев, Л. П. Софиано, А. Л. Шанявский, К. Ф. Будо-гоский, Н. М. Турбин и др. (Вагин, 1896; Венюков, 1998, с. 227–228). Чиновники в РГО сотрудничали с политическими ссыльными. По мнению Н. Н. Козьмина, отдел «представлял из себя ученый комитет при Главном Управлении Восточной Сибири и научное бюро» [1904, с. 6].
В состав Западно-Сибирского отдела входили начальник Съемочного отделения Главного управления Западной Сибири Ф. А. Дорофеев, чиновник по особым поручениям в названном управлении Я. П. Косаговский, чиновники управления Н. М. Ядринцев, Н. Н. Балкашин [Михайленко, 2020], наряду с другими представителями местной интеллигенции.
Таким образом, сибирские отделы РГО были коммуникативной площадкой, где происходил обмен мнениями и информацией между представителями власти и общества (в том числе областниками и политическими ссыльными), учеными-экспертами и практиками-администраторами. РГО являлось одним из институтов формирования образа региона и его жителей в общественном мнении Российской империи второй половины XIX – начала ХХ в.
По нашему мнению, несмотря на стремление правительства усилить надзор над местной администрацией в сфере делопроизводства за строгой секретностью переписки, запрет на публикацию отчетов и императорских помет на них [Кальмина, Малыгина, 2012, с. 142], их содержание было известно как минимум ближайшему окружению генерал-губернаторов и базировалось на текстах, созданных их подчиненными, в том числе достаточно известными исследователями Сибири, привлекавшимися в качестве экспертов.
А. В. Ремнев писал, что в верхах понимали, что в отчетах местной администрации прочно укоренилась «официальная ложь», а потому особую ценность имели сведения, поставляемые в столицы независимыми информаторами, в том числе путешественниками и даже политическими ссыльными [2015, c. 49]. Не оспаривая этого утверждения, заметим, что и некоторые генерал-губернаторы, с одной стороны, стремились контролировать и наиболее эффективно организовать сбор фактических сведений, а с другой – привлекали экспертов из местных интеллектуалов для обсуждения насущных проблем местного управления.
Структура отчетов была достаточно консервативной. Она была обусловлена нормативными документами, традициями, заложенными предшественниками, текущими запросами верховной власти, в отдельных случаях соображениями самих глав сибирской администрации. Информация о сельском населении содержалась не только в специально посвященном ему разделе, но и в тех, где говорилось о земских повинностях, промыслах (в том числе о сельском хозяйстве), вероисповедании и т. п.
С нашей точки зрения, на структуру отчетов, а отчасти и на содержание разделов о населении, вполне могли повлиять тексты экспертов, привлекавшихся генерал-губернаторами к сотрудничеству, доклады и публикации членов сибирских отделов РГО.
В учебных пособиях по географии XIX столетия материал излагался по схожему с отчетами плану: границы, качество земли и природные ресурсы, численность и состав населения, его занятия, особенности образа жизни, религиозные верования [Родигина, 2006, c. 70–79]. В расширенном варианте данная схема применялась в описаниях полиэтничного населения региона в периодических изданиях РГО, она была характерна для репрезентаций сельского населения в общественно-политических ежемесячниках и иллюстрированных еженедельниках, ориентированных на массовую аудиторию. Таким образом, авторы учебной, справочной, научной литературы, публикаций в периодических изданиях формировали то дискурсивное поле, в котором создавались и функционировали изучаемые нами отчеты.
Тексты отчетов свидетельствуют о том, что их авторы конструировали дискурс о социокультурном своеобразии местного населения. Чаще всего, когда в отчетах речь шла о сибиряках, подразумевалось крестьянство. Так, Д. Г. Анучин в первом своем отчете-обозрении (1879) вполне в духе известных высказываний декабристов П. А. Кропоткина, М. С. Каханова, областников и др. [Ремнев, 2015, c. 314] писал о чувстве собственного достоинства, зажиточности, прагматичности, энергичности сибиряков: «Неразговорчивого, сумрачного кресть- янина пермяка, спешащего скорее сбыть с рук проезжающего высшего чиновника, сменил бойкий, сметливый и словоохотливый крестьянин сибиряк, по большей части хорошо одетый и обстроенный» (Всеподданнейший отчет…, 1884, c. 9). Пятнадцатью годами раньше М. С. Корсаков в отчете за 1864 г. утверждал: «Дух времени коснулся и крестьянина сибирского; повсюду в крае чувствуется какое-то смутное стремление к образованию как самому действенному средству в деле улучшения и материального, и нравственного благосостояния» 1. Н. П. Синельников в отчете за 1872 г. также подчеркивал «здравый ум и сметливость русского человека» 2. В отчетах встречается указание и на такую черту менталитета сибиряков (очевидно, типичную и для более широких слоев населения всей России), как пренебрежительное отношение к закону, привычка не считаться с ним. И всё же с осторожным оптимизмом Д. Г. Анучин писал в 1882 г., что «сознание законности проникает в массы медленно» 3.
С начала 1880-х гг. по мере утверждения консервативных тенденций во внутриполитическом курсе, роста популярности русификаторских проектов в отношении имперских окраин дискурс о преимуществах русских сибиряков дополняется фиксацией особенных верноподданнических чувств сибирских крестьян. «Несмотря на массу представителей всевозможных лжеучений и революционных идей, извергавшихся из Европейской России в течение многих лет, крестьянское население Сибири остается непоколебимым в заветных чувствах своих предков – преданности Царю и отечеству», – читаем в отчете А. П. Игнатьева (Всеподданнейший отчет…, 1889, с. 33).
Положение крестьянства представлялось вполне благополучным, хотя и требовавшим в духе традиционного патерналистского отношения большего внимания центра. Н. Н. Муравьев в отчетах за 1853 и 1858 гг. всё же отмечал тяжесть натуральных повинностей, особенно дорожной, затруднения в уплате податей, а порой даже «бедственное положение» части крестьян 4. Трудность исполнения дорожной повинности отмечал и Д. Г. Анучин в отчете за 1879 г. (Всеподданнейший отчет…, 1884, с. 11). А. О. Дюгамель и А. П. Хрущов в отчетах за 1865 и 1866 гг. указывали также и на ухудшение «благосостояния» бывших приписных горнозаводских крестьян, обедневших до того, что «затруднялись» в уплате податей. Правда, вина за это возлагалась на самих бывших приписных, которые «с получением свободы уменьшили запашки» 5. Рефреном во всех отчетах проходила мысль о «лености», беспечности, ограниченности потребностей и, как следствие, меньшей зажиточности крестьян 6. Столь же обычным было сетование на отсутствие крупных частных землевладельцев, которые могли бы «вводить улучшения и влиять на местное население» 7.
При этом, как и в публицистическом дискурсе общественно-политических журналов и «больших» русских газет, вне зависимости от их идеологических пристрастий, крестьяне-старожилы противопоставлялись переселенцам. Оценочная позиция авторов отчета, по всей видимости, определялась не только их мировоззренческими симпатиями, но и актуальным на тот момент направлением переселенческой политики, собственным представлением о перспективах развития региона, соотношением численности старожилов и аграрных мигрантов в крае, остротой земельного вопроса и степенью социальной напряженности во взаимоотношениях этих двух групп населения сибирской деревни. В изучаемый нами период большинство генерал-губернаторов выступало за увеличение притока аграрных мигрантов за Урал. К примеру, А. О. Дюгамель и А. П. Хрущов, формулируя свою позицию в схожих словах и выражениях, подчеркивали социокультурные и хозяйственные преимущества переселен- цев. Так, в отчете за 1866 г. Хрущов писал: «При изобилии пахотной земли крестьяне (старожилы. – Н. М., Н. Р.) мало дорожат ею и нередко, засевая одно и то же поле по несколько лет сряду и доводя его таким образом до совершенного истощения, переносят затем свой плуг и борону на новое место». Переселенцы же «из внутренних малоземельных губерний» пользовались «более усовершенствованными приемами и орудиями», что позволяло им «обрабатывать сравнительно большее количество земли и с большею выгодою» 8.
В отличие от текстов экспертов либерального и народнического толка, в отчетах не указываются разногласия и противоречия внутри старожильческого населения, хотя и отмечается распространенное недовольство крестьян сельской выборной администрацией. Сравнительно мало внимания уделяется и общине, хотя «общинное землевладение» противопоставляется частному, поскольку служит «препятствием к развитию материального благосостояния» 9.
Как и любые образы реальности, образы сибиряков амбивалентны, и в отчетах, наряду с их положительными характеристиками, содержатся критические высказывания, которые можно рассматривать как бинарные оппозиции комплиментарным. В отчете Корсакова за 1863 г. фиксируется образ застывшего и косного населения региона: «Стечение различных обстоятельств… обратили сельское население Восточной Сибири в одну сплошную массу людей, стоящих на одинаковом уровне умственного, нравственного и материального развития. Понятия, привычки и взгляды народа переходят без перемены от одного поколения к другому и, укрепляясь силою отцовского предания, делают его весьма мало восприимчивым к нововведениям и преобразованиям, возбуждаемым духом времени» 10. Схожую мысль встречаем и у П. А. Фредерикса, видевшего причину экономического и культурного неблагополучия сельского населения в «неподатливости сибиряков к каким бы то ни было нововведениям» 11.
Авторами дискурса генерал-губернаторов о сельском населении, наряду с самими генерал-губернаторами, являлись чиновники разного уровня, среди которых были исследователи и общественные деятели, принимавшие участие в сборе материалов для отчетов. Мы предполагаем, что на образы сельского населения Сибири, отраженные в отчетах, оказывали влияние публикации в периодической печати, мнения привлеченных экспертов (в том числе членов РГО и ряда других общественных организаций).
Непосредственными адресатами дискурса являлся император, чиновники столичных министерств и ведомств. Однако содержание отчетов часто становилось достоянием общественности – обычно от приближенных и экспертов. В сибирских газетах периодически появлялись публикации, в которых высказывались сожаления о том, что литература о них молчит, а правительство не учитывает их (Чего ждать Сибири, 1882, с. 1).
Репрезентации крестьянства в генерал-губернаторских отчетах были достаточно консервативны (традиционны) и мало изменчивы во времени. Этому способствовали официально закрепленная структура отчетов и стремление сохранять преемственность с мнением предшественников (хотя встречались и исключения). В целом крестьянство описывалось в патерналистском духе как объект заботы и попечения. На содержание репрезентаций сельского населения влияли: 1) позиция центральной власти по отношению к региону в целом и той или иной группе населения; 2) тот образ реальности, который существовал у самого генерал-губернатора и его окружения в отношении конкретных групп сельского населения и необходимости преобразования их статуса и улучшения образа жизни; 3) позиция тех мы-групп из представителей общественного мнения, которые были влиятельны для генерал-губернатора.
Список литературы Репрезентации сельского населения региона в отчетах сибирских генерал-губернаторов второй половины XIX века: крестьянство
- Анисимов К. В. У истоков сибирской темы в русской литературе XIX века: журнал Г. И. Спасского «Сибирский вестник» // Вестник Том. гос. пед. ун-та. 2004. № 3 (40). С. 65−72.
- Дутчак Е. Е., Кашпур В. В. «Русский сибиряк», или Парадоксы региональной идентификации // Общественные науки и современность. 2013. № 4. С. 116–129.
- Жигунова М. А., Ремнев А. В., Суворова Н. Г. Региональный вариант сибирской идентичности // Ом. науч. вестник. 2014. № 2 (12). С. 48–62.
- Иванов А. А., Курас С. Л. Всеподданнейшие отчеты иркутских генерал-губернаторов конца XIX – начала ХХ в. как источник изучения сибирской политической ссылки // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: История. 2019. Т. 27. С. 99–113.
- Игумнов Е. В. Высшая сибирская администрация и организация изучения Сибири во второй половине XIX века // Научный диалог. 2017. Вып. 6. С. 205–219.
- Кальмина Л. В., Малыгина О. А. Губернаторский отчет как структурный элемент делопроизводства в царской России (на примере Забайкальской области) // Власть. 2012. № 12. С. 141–144.
- Капустюк П. А., Кузнецов А. А. Роль министерства внутренних дел в научном освоении Восточной Сибири во второй половине XIX века // Вестник Вост.-Сиб. ин-та МВД России. 2018. № 2 (85). С. 11–21.
- Кискидосова Т. А. Губернаторские годовые отчеты как источник по изучению городского населения Восточной Сибири в 1850–1880-е гг. // Вестник Том. гос. ун-та. 2016. № 412. С. 50–53.
- Козьмин Н. Н. Исторический очерк деятельности Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества // Изв. Вост.-Сиб. отдела РГО. 1904. Т. 35, № 2. С. 1–43.
- Комлева Е. В. Сибирское купечество: вклад в хозяйственное освоение и изучение Северо-Восточной Евразии (конец XVIII – XIX век). Новосибирск: Параллель, 2018. 398 с.
- Маджаров А. С., Пономарева Е. Л. Социальная история Сибири 50–80-х гг. XIX в. в материалах всеподданнейших отчетов генерал-губернаторов // Изв/ Иркут. гос. ун-та. Серия: История. 2015. Т. 14. С. 6–17.
- Матханова Н. П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири середины XIX века: В. Я. Руперт, Н. Н. Муравьев-Амурский, М. С. Корсаков. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. 428 с.
- Матханова Н. П. Высшая администрация Восточной Сибири в середине XIX века: Проблемы социальной стратификации. Новосибирск: Сиб. хронограф, 2002. 250 с.
- Матханова Н. П., Родигина Н. Н. Всеподданнейшие отчеты как источник для изучения представлений сибирских генерал-губернаторов второй половины XIX столетия о регионе // Гуманитарные науки в Сибири. 2019а. Т. 26, № 1. С. 45–51.
- Матханова Н. П., Родигина Н. Н. Образ Сибири в отчетах генерал-губернаторов второй половины XIX в. // Quaestio Rossica. 2019б. Т. 7, № 3. С. 835–850.
- Михайленко Е. И. Чиновник в общественной и научной жизни: научные эксперты Главного управления Западной Сибири (1858–1881 гг.) // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых. Новосибирск, 2020. С. 165–173.
- Пономарева Е. Л. Всеподданнейшие отчеты генерал-губернаторов как источник по истории Восточной Сибири (50–80-е гг. XIX в.) // Изв. Алт. гос. ун-та. 2008. № 4/1. С. 112–115.
- Ремнев А. В. Национальность «сибиряк»: региональная идентичность и исторический конструктивизм XIX в. // Полития. 2011. № 3 (62). С. 109–128.
- Ремнев А. В. Сибирь в имперской географии власти XIX – начала ХХ в. Омск: Изд-во ОмГУ, 2015. 580 с.
- Родигина Н. Н. «Другая Россия»: образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала ХХ в. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2006. 343 с.
- Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 12–53.
- Тюпа В. И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35.
- Фуко М. Археология знания. СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия», Университетская книга, 2004. 416 с.
- Хламова А. М. Уголовная ссылка в Сибирь в материалах официального делопроизводства высшей администрации во второй половине XIX в. // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Т. 9, № 1: История. С. 246–250.
- Бабков И. Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири, 1859–1875 г.: Разграничение с Западным Китаем 1869 г. СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1912. 575 с.
- Вагин В. И. Старое время Сибирского географического отдела // Сибирский сборник. 1896. Вып. 1. С. 1–8.
- Венюков М. И. Мои воспоминания. 1857–1858 гг. // Граф Н. Н. Муравьев-Амурский в воспоминаниях современников. Новосибирск, 1998. С. 200–228.
- Всеподданнейший отчет генерал-губернатора Восточной Сибири по управлению Восточной Сибирью за 1879 г. // Сборник главнейших официальных документов по управлению Восточною Сибирью. Иркутск, 1884. Т. 1. С. 7–48.
- Всеподданнейший отчет по управлению Иркутским енерал-губернаторством за 18871889 гг. СПб., 1889.
- Милютин Б. А. Генерал-губернаторство Н. Н. Муравьева в Сибири (отрывок из воспоминаний) // Граф Н. Н. Муравьев-Амурский в воспоминаниях современников. Новосибирск, 1998. С. 236–252.
- Чего ждать Сибири // Восточное обозрение. 1882. № 8. С. 1–2.