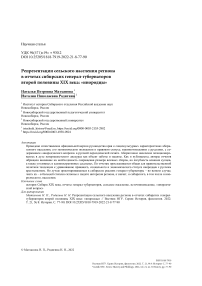Репрезентации сельского населения региона в отчетах сибирских генерал-губернаторов второй половины XIX века: "инородцы"
Автор: Матханова Н.П., Родигина Н.Н.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Проведено сопоставление официальной версии руководства края о социокультурных характеристиках аборигенного населения, его экономическом положении и правовом статусе, взаимоотношениях с русскими, с содержанием «инородческого вопроса» в русской периодической печати. Аборигенное население позиционировалось в духе патерналистского дискурса как объект заботы и защиты. Как и публицисты, авторы отчетов обращали внимание на необходимость сокращения размера ясачных сборов, на пагубность влияния купцов, а также уголовных и административных ссыльных. По отчетам прослеживается общая для правительственной политики тенденция к уравниванию правового, социального и экономического статуса инородцев с русским крестьянством. Но лучше ориентировавшиеся в сибирских реалиях генерал-губернаторы - во всяком случае, часть их - в большей степени склонны к защите интересов региона, а значит, и сибирского, в том числе и инородческого, населения.
История сибири xix века, отчеты генерал-губернаторов, сельское население, источниковедение, "инородческий вопрос"
Короткий адрес: https://sciup.org/147238788
IDR: 147238788 | УДК: 94(571)«19» | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-8-77-90
Текст научной статьи Репрезентации сельского населения региона в отчетах сибирских генерал-губернаторов второй половины XIX века: "инородцы"
Matkhanova N. P., Rodigina N. N. The Representations of Rural Population of the Region in the Reports of Siberian Governor-Generals in the 2nd Half of the 19th Century: “Foreigners”. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 8: History, pp. 77–90. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-8-77-90
Статья продолжает цикл публикаций об источниковом потенциале всеподданнейших отчетов генерал-губернаторов для изучения образов Сибири и ее населения у представителей высшей правительственной власти в регионе [Матханова, Родигина, 2019а; 2019б; 2021]. Ранее нами были выявлены основные видовые характеристики отчетов, охарактеризована их структура, установлены их авторы (мы поддерживаем идею коллективного авторства) и адресаты, определены ключевые элементы образа Сибири, транслируемого ими, а также раскрыты отраженные в них представления о крестьянах как наиболее многочисленной группе населения края. Обращение к изучению дискурса генерал-губернаторских отчетов об «инородческом» населении актуально, на наш взгляд, по следующим причинам. Во-первых, оно позволит соотнести официальную версию руководства края о социокультурных характеристиках аборигенного населения, его экономическом положении и правовом статусе, взаимоотношениях с русскими с содержанием «инородческого вопроса» в русской периодической печати, являвшейся одним из основных институтов формирования общественного мнения в Российской империи второй половины XIX в. Во-вторых, расширит существующие в исторической науке представления о роли генерал-губернаторов в разработке имперской политики, а также об источниках формирования и факторах, определявших позицию высшего чиновничества по отношению к аборигенным народам Сибири.
В данной публикации мы стремимся выявить репрезентации «инородческого» населения Сибири во всеподданнейших отчетах местных генерал-губернаторов, определить контекст их актуализации и выяснить факторы, оказавшие на них влияние.
Для выяснения общественно-политического и социально-экономического контекстов, влиявших на мнение авторов отчетов об аборигенном населении региона, мы обратились к обобщающим исследованиям, посвященным имперской политике в отношении коренных народов Сибири в середине – второй половине XIX в. Историки практически единодушны в том, что управление автохтонным населением в эпоху реформ и первые пореформенные десятилетия базировалось на «Уставе об управлении инородцев» 1822 г., оформившем образование нового сословия – «сибирских инородцев». Мы разделяем мнение Л. М. Дамешека о том, что устав был ярким проявлением политики имперского регионализма. С одной стороны, он учитывал этнические, социально-экономические особенности сибирских этносов, регламентировал их экономические, административные, судебно-правовые, социокультурные практики, с другой же – отражал взгляд правительства на специфический статус региона в составе империи [Дамешек, 2007, с. 90–98, 294–295; Сибирь…, 2007, c. 230–235]. Нам представляется важным наблюдение Ю. Слезкина об интеллектуальном контексте формирования устава: «Романтический мир, в котором жил Сперанский и многие его современники, состоял из органических наций, каждая из которых обладала своим собственным духом, своим жизненным циклом и своим уникальным вкладом в целое. Решающий первый шаг состоял в том, чтобы определить, какие группы людей обладают этими качествами и потому могут считаться “историческими нациями”… Более того, благодаря живучести старого “государственного принципа” русские обычно рассматривались как единственная историческая нация Российской империи… Вопрос о незрелых охотниках и собирателях, “к которым само слово «нация» неприменимо” казался ясным… Однако сама их “дикость”, казалось, требовала особого законодательного обеспечения, в котором прочие неисторические народы не нуждались» [Слезкин, 2018, c. 102]. При этом превращение оседлых «инородцев» в русских авторами устава не предусматривалось, предполагалось, что «русификация должна происходить путем индивидуального обучения и обращения и, возможно, через смешанные браки» [Там же, c. 104].
Принимая во внимание работы, посвященные многозначности и истории бытования понятия «инородцы» в русском законодательстве, властных практиках и в общественно-политических дискурсах XIX в. (см. [Конев, 2014; Панченко, Стафеев, 2018; Слокум, 2005] и др.), мы вслед за авторами отчетов генерал-губернаторов понимаем под «сибирскими инородцами» тех представителей этого сословия, которые относятся к аборигенному населению региона.
Л. М. Дамешек, А. Ю. Конев, А. В. Ремнев, обращая внимание на гибкость, а порой и противоречивость правительственной национальной политики, в качестве ее главного вектора в отношении аборигенного населения на протяжении второй половины XIX в. называют стремление к общеимперской унификации и подчинению инородцев имперскому законодательству («обрусение»). В качестве основных вех этой политики ученые отмечают: 1) программу Второго Сибирского комитета 1852 г., предусматривавшую подчинение оседлого аборигенного населения общим крестьянским учреждениям и привлечение к оседлости кочевых этносов наряду с их «ограждением от разных притеснений»; 2) положение «О главных основаниях поземельного устройства крестьян и инородцев, водворившихся на казенных землях губерний Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской» 23 мая 1896 г., а также Положение о поземельном устройстве крестьян и инородцев, водворившихся в Алтайском округе на землях Кабинета его императорского величества, от 31 мая 1899 г., по которым поземельное устройство получили как крестьяне, так и оседлые и кочевые инородцы, получившие наделы в пользование, а не на правах собственности; 3) закон о крестьянских и инородческих начальниках 8 июня 1898 г., согласно которому органы управления инородцами, основанные на принципах 1822 г., сменялись управами «русского типа»; 4) положение «О видах на жительство» 8 июня 1898 г., устанавливавшее для коренного населения места постоянного проживания, при отлучке из которых они должны были иметь паспорта; 5) закон «О замене взимаемых в Сибири подушных сборов государственною оброчной и поземельною податями» 19 января 1898 г., отменивший в ряде округов подушную и оброчную подати, ясачный сбор и сбор на межевание, уплачиваемые крестьянами и «оседлыми инородцами», а также предусматривавший введение общественного крестьянского самоуправления (см. [Дамешек, 2007, с. 126–134, 162–163, 286–292; Конев, 1995, с. 127–144; Ремнев, 2015, c. 330–334; Сибирь…, 2007, c. 235–238] и др.).
Взаимосвязь и взаимовлияние демографического, социально-экономического, общественно-политического развития аборигенных народов Сибири и правительственной политики в отношении «инородческого» населения применительно к интересующему нас периоду раскрыты в ряде работ (см. [Андреев, 2001; Дамешек, 2007; Конев, 1995; Шерстова, 1999] и др.). Их выводы были важны для выяснения влияния конкретных исторических вызовов и ситуаций на содержание генерал-губернаторских отчетов.
В последние десятилетия предметом пристального внимания историков стал «инородческий вопрос» в русской периодической печати и общественном мнении второй половины XIX – начала ХХ в. Под ним чаще всего понимается широкий спектр проблем политического, экономического, социального, культурного характера, связанных с инкорпорацией аборигенного населения Сибири в состав Российской империи, решением которых должны были заниматься государство и представители общественности [Ледовских, 2008, с. 3]. Остановимся на характеристике работ, позволивших нам уточнить тот интеллектуальный фон, который мог влиять на содержание представлений авторов генерал-губернаторских отчетов, а также на их восприятие адресатами.
Е. П. Коваляшкиной предпринято сопоставление правительственного (традиционного, патерналистского, «собственнического» в своей основе) и альтернативного ему областнического («прогрессивного») вариантов решения «инородческого вопроса». Исследователь отмечает общность целеполагания решения «инородческого вопроса» как со стороны власти, так и со стороны лидеров областничества [Коваляшкина, 2005, с. 282–283]. Соглашаясь с основными выводами автора, не можем не акцентировать внимания на различиях в представлениях областников о социокультурных характеристиках «сибирских инородцев» и их перспектив развития в будущем [Слезкин, 2018, c. 133–140].
В трудах Е. А. Сениной, Г. А. Казариной показан процесс обсуждения в местной периодической печати положения коренного населения региона и государственной политики в отношении «инородцев» [Сенина, 2005; Казарина, 2009]. Однако нам не близка интерпретация Е. А. Сениной позиции местного журналистского сообщества как сколько-нибудь консолидированного мнения. У местной интеллигенции, как и у представителей власти, было разное, порой противоречивое и конкурентное понимание того, кто такие «инородцы», каковы перспективы их социального и социокультурного развития, как должны строиться отношения между русским и другими этносами зауральских губерний и областей.
Мы опирались на наблюдения и выводы А. Ю. Ледовских, Т. А. Кузнецовой (Кебак) об этапах, причинах, контекстах актуализации «инородческого вопроса» в русской журнальной прессе, о влиянии на его интерпретацию мировоззренческой ориентации изданий, их специализации, профессиональной принадлежности их авторов, характера их биографической связи с регионом, точках «схождения» и дискуссионных аспектах различных сюжетов, объединяемых под общей номинацией «инородческий вопрос» [Ледовских, 2006; 2008; 2010; Кузнецова, 2007а; 2007б].
Несмотря на то что наши предшественники, особенно исследователи аборигенной политики имперской власти второй половины XIX столетия, обращались к текстам отчетов генерал-губернаторов для выяснения позиции представителей высшей административной власти в регионе, дискурс о «сибирских инородцах», сконструированный в этих текстах, еще не был предметом специального анализа. Важно пояснить, что мы не склонны однозначно отождествлять позиции генерал-губернаторов по «инородческому вопросу» с теми их версиями, которые представлены во всеподданнейших отчетах, имея в виду, что к написанию последних были причастны, в большей или меньшей степени, нижестоящие чиновники, предшественники, приглашенные эксперты, в том числе члены Русского Императорского Географического общества (ИРГО). В качестве знатоков образа жизни «инородцев» привлекались представители родовой знати [Дамешек, 2007, c. 105].
Нами использовались отчеты глав Западной и Восточной Сибири с начала 1850-х гг. (обсуждение «сибирских вопросов» во Втором Сибирском комитете) и до времени упразднения Западно-Сибирского (1882) и Восточно-Сибирского генерал-губернаторств (1887), а также отчет иркутского генерал-губернатора за 1887–1889 гг.
Если в общественном мнении, судя по материалам периодической печати, стабильное внимание к проблемам «инородческого» населения совпадает с первой русской «оттепелью», ослаблением цензуры, формированием идей областничества, ростом числа периодических изданий (как географических, страноведческих, так и общественно-политических, в том числе и сибирских), популяризацией этнографии, то интерес местной и столичной бюрократии к проблемам «инородческого» населения очевиден уже с начала изучаемого нами периода и связан с территориальной экспансией империи на Восток, с деятельностью Второго Сибирского комитета, образованием в 1851 г. Восточно-Сибирского отдела ИРГО.
С начала 1850-х гг. дискурс генерал-губернаторских отчетов в отношении «инородческого» населения вполне согласовывался с идеями Второго Сибирского комитета о подчинении оседлых этносов общему крестьянскому законодательству. Однако для репрезентаций «кочевых инородцев» характерны штампы, распространенные в публицистике и этнографических описаниях на протяжении всего XIX в. Часто сюжеты о быте аборигенов, их занятиях и правовом положении появлялись в ответ на требование вышестоящих властей «обратить особое внимание». Это относится к тексту в отчете Г. Х. Гасфорда за 1858 г. (воспроизводящему отчет тобольского губернатора) о северных «инородцах»: «Пространство земли, занимаемое самоедами, край За-Обдорский, состоит большею частию из болот и тундр… но совершенно лишен строевого лесу, отчего самоеды живут в чумах (род палаток) из оленьих шкур и бересты, легко перевозимых с одного места на другое. Главный источник существования самоедов, кроме рыбы, – олень, который питается мохом, растущим хотя везде, но по низкорослости не в таком изобилии, как травы, употребляемые в корм другими животными. Это последнее обстоятельство служит одним из главных и существенных препятствий к изменению бродячей жизни самоедов: если бы какой-нибудь род во всем своем составе осел на одном месте, то неминуемым следствием этого было бы истребление всех его оленей по недостатку моха, необходимого для их пропитания» 1. Очевиден в этом тексте взгляд не столько администратора, сколько любознательного туриста, транслирующего идеи эволюционистов и знакомого с репрезентациями «благородных дикарей» в литературе эпохи романтизма. В меньшей степени он заметен в описании этносов, населявших юг Западной Сибири – они были уже менее экзотичны для европейца. Так, о сибирских киргизах (казахах) сказано: «Быт этого племени кочевой, буколический, и все его народные предания делают для него этот быт священным, самое существование киргизов находится в непосредственной зависимости от их кочевого быта… Но материальные их выгоды, невмешательство правительства в их домашние и духовные дела, предоставление им права избрания волостных управителей и поддержание между ними народного суда биев с году на год более и более привязывают их к русскому правительству» 2.
В отчетах А. О. Дюгамеля также заметно большее внимание к южным территориям и их коренному населению, что естественно для востоковеда, специалиста по Азии. Он подчеркивает произошедшие в социальном устройстве казахов перемены: отказ от владения невольниками, распространение русского языка и т. п. Не менее важным он считает и то обстоятельство, что, хотя султаны по-прежнему «пользуются по народным обычаям уважением и почетом», теперь «родовое значение султанов, ходжей и биев значительно ослабело с тех пор, как офицерские чины и другие знаки отличия, дарованные киргизам за заслуги, предоставили возможность и непривилегированным лицам отправлять общественные должности и участвовать в управлении народом» 3. Крайне пессимистично описание им «инородческого» населения Березовского и северной части Тобольского округа: «Инородцы Березовского округа живут в грязных чумах и юртах и почти поголовно страдают особенного рода болезнями… передающимися по наследству… и уничтожающими племя… Все эти инородческие племена, не пополняющиеся ни естественным приращением, ни приливом извне, положительно можно отнести к числу вымирающих. Их неминуемо ожидает печальная участь всякого племени, застигнутого в своем развитии другим сильнейшим племенем. Окруженные отовсюду русским племенем, слабые физически, неразвитые нравственно, при отсутствии духа предприимчивости, инородческие племена или должны совершенно поглотиться русским элементом и исчезнуть в нем, или же слабеть и вымирать мало-помалу от своей замкнутости и от недостатков свежих здоровых соков» 4. Данное утверждение вполне согласуется с распространенным в русской интеллектуальной культуре первой половины XIX в. делением на исторические и неисторические народы. Заметим, что и в воспоминаниях Дюгамеля встречаются подобные утверждения, которые свидетельствуют о том, что генерал-губернатору данные идеи были близки: «…остяки – племя в высшей степени хилое и бедное... Там, точно так же, как и в Березове, русские торговцы, благодаря своим капиталам и большему умственному развитию, жестоко обижают местных жителей, которые – настоящие дети природы и скоро совсем исчезли бы с лица земли, если бы о них не заботилось правительство» (Дюгамель, 1885, с. 423–424).
Несмотря на попечение и заботу, пишет Дюгамель уже в отчете, «с появлением русских повторяется то же самое явление, которое представляют нам первобытные жители Америки, в столкновении их с англо-саксонским племенем они не могут противостоять живучести и высшему развитию народа, с которым стали в соприкосновение, и вследствие невыгодных климатических условий, порождающих гибельные болезни, инородцы мало-помалу вымирают и со временем, вероятно, вовсе исчезнут с лица земли. Для отдаления, по возможности, этого грустного явления, остяки и самоеды требуют особой над собой опеки правительства» 5. Данная позиция соотносится с общим правительственным курсом на инкорпорацию аборигенов в имперскую систему государственных, экономических и иных связей, сочетающим методы материального и морального поощрения с неприкрытым администрированием, свидетельствует о патерналистском отношении к аборигенам [Сибирь…, 2007, c. 203, 212].
Сопоставление упомянутых отчетов с выводами А. Ю. Ледовских об интерпретации «инородческого вопроса» в Сибири в консервативной журнальной периодике второй половины XIX в. показывает определенную близость репрезентаций аборигенного населения региона. Исходя из того, что «сибирские инородцы» не представляли угрозы целостности империи, консерваторы воспринимали их вполне лояльно, как экзотическое дополнение к сибирской действительности, невежественных и наивных «детей», которые в будущем благодаря воз- действию русских достигнут такого же высокого культурного уровня и смогут внести свой особенный вклад в жизнь империи [Ледовских, 2008, с. 43, 94–95 и др.]. Однако наряду с этим местными администраторами не мог игнорироваться вопрос о негативном влиянии русского населения на экономическое, демографическое и культурное развитие местного населения, который регулярно поднимался областническими и народническими публицистами и отражал реально существующие проблемы, в том числе и связанные с управлением «инородческим» населением. Нередко генерал-губернаторы Западной Сибири указывали на «неблагоприятное влияние, а иногда и злоупотребления коммерческих людей, недобросовестно пользовавшихся простотою и бедностью» «инородцев», прямо обвиняли русских рыбопромышленников, захватывавших лучшие рыбные места и бравших их в аренду за бесценок, ведших несправедливую торговлю, спаивавших аборигенов 6. Повторяя основные тезисы отчетов своих предшественников, А. П. Хрущов в отчете за 1866 г. дополняет их указанием на то, что «звериный промысел в результате постоянного и не экономического истребления зверя с каждым годом падает» 7. Он развивает и мысль о захвате лучших озер русскими промышленниками и казаками. Однако причиной этого в отчетах, в ориенталистском (в варианте Э. Саида) ключе, называются социокультурные и социально-психологические характеристики самих «инородцев», в том числе их «бедность, неразвитость и беспечность» 8. Вообще постоянно подчеркивалась мысль, что большая часть проблем «инородцев» вызвана их ленью и нерадением к труду 9. В отчете за 1867 г. так прямо и сказано: «Леность, умственная неразвитость и ограниченность потребностей составляют отличительный признак большинства инородцев в Западной Сибири, экономический быт которых находится на самой низкой степени развития. Владея лучшими пахотными, сенокосными, лесными и рыболовными угодьями, татары не разрабатывают их, предпочитая пользоваться… ничтожною арендною платою. Они… влачат жалкое существование» 10. Но еще «более печальное состояние представляют по своему образу жизни обитающие на севере Тобольской губернии остяки и самоеды». Хотя они платят незначительный ясак, у них нет податей, они владеют богатыми рыбными промыслами и лесными угодьями, но при «неразвитии их в умственном и экономическом отношениях» в положении их мало утешительного. Богатые рыбные ловли отдаются за ничтожную плату русским промышленникам, а сами владельцы нанимаются к ним в работники. Таково же положение «инородцев» и в Томской губернии 11. Попутно заметим, что сетования на лень и неразвитость характерны не только для репрезентаций аборигенного населения, они адресуются и русскому старожильческому населению. О чем, к примеру, упоминает восточносибирский генерал-губернатор Н. Н. Муравьев в отчете за 1849 г. 12
Близкую позицию фиксируют и отчеты Н. Г. Казнакова: «Крайняя бедность остяков и самоедов» происходит преимущественно от «неудержимой страсти к крепким напиткам». Все меры правительства остаются безуспешными «по причине умственной неразвитости и суровой обстановки жизни инородцев, частию вследствие беспощадной эксплуатации их промышленниками». Миссионеры, учителя и медики неохотно едут в отдаленные суровые районы, а обучение уроженцев пока организовать не удается. Остается лишь «следить, чтобы рыболовные пески сдавались инородцами в аренду за справедливую цену» 13.
Схожие репрезентации аборигенного населения очевидны из отчетов восточносибирских генерал-губернаторов 1850–1880-х гг. Как и в Западной Сибири, отчеты свидетельствуют о том, что степень актуальности «инородческого вопроса» не только отличалась у разных глав генерал-губернаторств, но и зависела от задач, которые они ставили перед собой и под- чиненными в тот или иной период управления. И. П. Барсуков называл Н. Н. Муравьева защитником «инородческого» населения, оберегавшим «инородцев от незаконного закрепощения и грубого произвола разных промышленников» и оставившим «благодарную память в коренном населении Восточной Сибири» (Барсуков, 1891, с. I). Однако его отчеты за 1848– 1851 гг. содержат единичные упоминания о коренных жителях края. Это объясняется други- ми геополитическими и административными приоритетами, связанными с присоединением Амура. Судя по отчетам, «инородцы» интересуют Муравьева как объект защиты от «алчных притеснений» со стороны купечества 14 и в связи с угрозой распространения ламаизма в Забайкальской области 15. Ситуация меняется в 1852–1853 гг., когда он представляет проект «О преобразовании ламайского духовенства». Опытный управленец поддерживал генеральную линию по распространению на инородцев общероссийского законодательства, но, учитывая геополитическую ситуацию, предлагал действовать с большой осторожностью [Даме-шек Л., Дамешек И., 2021]. Во второй половине 1850-х гг., указывая на желательность распространения общего законодательства на «оседлых инородцев», Муравьев по-прежнему довольно осторожен и конкретен. Так, в отчете за 1856 г. читаем: «Все законы, относящиеся до управления сибирскими инородцами, относятся к 1822 г. Нет сомнения, что с этого времени инородцы сделали большой шаг на пути к гражданственности, многие из них из кочевых сделались оседлыми и, в быту своем ни в чем не отличаясь от русских крестьян, чувствуют потребность в изменении законов, составленных сообразно их прежнему быту 35 лет тому назад. Именно в таком положении находятся инородцы округов: Иркутского, Балаган-ского и Верхоленского (Иркутской губернии) и Минусинского (Енисейской губернии), все они давно уже бросили кочевую жизнь, занимаются хлебопашеством и, находясь в постоянных торговых и других сношениях с русскими, чувствуют потребность в общих с ними зако- нах» 16
.
В соответствии с правительственной установкой «превращения Сибири в Россию» в отчетах высказывается желательность распространения земледелия в крае, что имело целью не только экономическую, но социокультурную инкорпорацию «инородцев» (в этническом, а не в сословном понимании этого слова) в состав империи, а в качестве цивилизатора рассматривался «православный крестьянин-землевладелец, который должен был духовно сплотить империю, научить сибирского “инородца” не только пахать, косить, строить дома, но даже молиться, говорить и думать по-русски» [Сибирь…, 2007, c. 209]. Исходя из этого степень интеграции аборигенного населения определялась способностью к ведению земледельческого хозяйства.
Самое распространенное для отчетов восточносибирских генерал-губернаторов высказывание: «Буряты – полезные хлебопашцы, татары и якуты – большие скотоводы, тунгусы – отличные звероловы» 17. Понятно, что здесь представлен взгляд с одной точки зрения – значения для начальства и фискальных интересов казны. А. П. Игнатьев (и его подчиненные) довольно подробно характеризует бурят и якутов. При этом обнаруживается вполне достаточная информированность о специфике управленческой структуры, о различиях в быте отдельных племен, подчеркивается относительно большая степень усвоения русской культуры, способов хозяйства и обычаев у бурят Иркутской губернии. Ставится вопрос о возможности и необходимости ликвидации Устава об инородцах, обусловливавшего сохранение до некоторой степени властных полномочий за местными выборными органами управления и обычного права в ряде судебных разбирательств (Всеподданнейший отчет…, 1886, с. 24).
Нередко генерал-губернаторы предъявляли претензии и к миссионерам. М. С. Корсаков утверждал, что «неумеренная ревность миссионеров, выражаясь во временных благоприят- ных результатах, может помешать делу христианской проповеди в будущем» 18. Н. П. Синельников – что они не соответствуют своему высокому призванию 19. Муравьев подчеркивал, что «умственное образование» «инородцев» должно предшествовать их религиозному просвещению 20. Но все считали важной и полезной деятельность миссионеров по обращению аборигенов в православие, что способствовало их постепенному обрусению – единственному приемлемому для части представителей русского духовенства, власти и интеллигенции способу их инкорпорации в общеимперское социокультурное пространство. П. А. Фредерикс подчеркивал, что «обрусение инородцев и успехи между ними гражданственности обуславливаются исключительно принятием православия, что доказывает быт оседлых ясачных бурят, давно усвоивших русскую жизнь» 21.
Горячий сторонник русификации бурятского населения А. П. Игнатьев настаивал: «Следует всемерно способствовать полному слиянию бурят с остальным русским населением, иначе говоря, обрусению их, что, в свою очередь, несомненно, поведет и к успехам в деле миссионерской проповеди» (Всеподданнейший отчет…, 1889, с. 39). Именно его предложения, наряду с идеями министра внутренних дел И. Л. Горемыкина, легли в основу закона 8 июня 1898 г., явившегося началом подчинения аборигенов действию общерусского законодательства [Сибирь…, 2007, с. 237].
Примечательно, что на протяжении всего изучаемого периода аборигенное население, как и русское крестьянство, позиционировалось в духе патерналистского дискурса как объект заботы и защиты от «вредных элементов», в первую очередь уголовных и административных ссыльных. Так, уже упомянутый А. П. Игнатьев, характеризуя якутское население, подчеркивает многочисленность, основательность и справедливость жалоб на «причисление к их наслегам и улусам ссыльных различных категорий». Он, в частности, замечает: «В бытность мою в Якутской области выяснилось вполне, до какой степени обременительна эта особая повинность для народа, обездоленного самою природою» (Всеподданнейший отчет…, 1886, с. 26).
Имея в виду, что позиция генерал-губернаторов по отношению к уголовной ссылке детально изучена А. М. Хламовой [2010], отметим, что красной нитью через большинство проанализированных нами отчетов проходит мысль о пагубном, развращающем воздействии уголовных и административных ссыльных и каторжан на социокультурный облик сибирского населения и на криминальную ситуацию в регионе, разочарование в колонизационном потенциале «отбросов Европейской России». Пожалуй, наиболее ярко эта мысль сформулирована в отчете Д. Г. Анучина: «Принудительное ее заселение и отбрасывание в нее всех подонков русского общества в виде ссыльных и ссыльнокаторжных положили на тамошнюю жизнь и порядки особый отпечаток. Административный произвол, самою силою вещей становившийся в прежнее время на место закона в этой пустынной стране, извратил совершенно понятие о законности, как у управляющих, так и в населении» 22.
Таким образом, сравнение репрезентаций «инородческого населения» в отчетах генерал-губернаторов с теми, что были известны читающей публике благодаря периодическим изданиям, свидетельствует об их сходстве, но и о различиях по целому ряду вопросов. Для отчетов, как и для общественно-политических газет и журналов либеральной и народнической ориентации, специализированных географических и исторических изданий, было характерно сопоставление представителей неоседлых аборигенных этносов с дикарями, «пасынками природы». Подобно авторам отчетов, публицисты обращали внимание на необходимость сокращения размера ясачных сборов, на пагубность влияния купцов, а также уголовных и административных ссыльных (см. [Ледовских, 2006; 2008; 2010; Кузнецова, 2007а; 2007б]
и др.). Отдельные авторы либеральных и народнических изданий, как и представители высшей правительственной власти в регионе, считали, что одним из рецептов «спасения» коренного населения является распространение христианства (при этом авторы «толстых» журналов настаивали исключительно на добровольной и постепенной христианизации) [Родигина, 2005, с. 48–49]. Однако на страницах периодики, особенно марксистской и областнической, нередкой была и критика внешнего, формального усвоения основ христианской религии, любого принуждения к ее принятию. Как публицистам (вне зависимости от их идеологических симпатий) и этнографам, «открывавшим» для себя «местных индейцев», авторам проанализированных нами делопроизводственных документов присуща определенная мифологизация (а иногда и романтизация) «инородцев», отношение к ним, как неиспорченным цивилизацией дикарям, нуждающимся в опеке, изучении и просветительском воздействии. В отчетах, как и на страницах периодической печати, сконструирован противоречивый образ «инородца»: с одной стороны, он выступает в качестве привлекательно-романтического дикаря, с другой же – как непонятный («ленивый», «ограниченный», «лживый», «беспомощный»), а иногда и потенциально враждебный символ осваиваемого имперского пограничья [Там же, с. 49–50]. И в отчетах, и в периодической печати внимание акцентируется на проблемах «кочевых» и «бродячих» «инородцев», «оседлые» же представляются более благополучными в социально-экономическом и социокультурном аспектах. Народнические, областнические и марксистские публицисты постоянно подчеркивают общность социальных и культурных проблем русских и аборигенных сельских жителей Сибири. При этом, разумеется, в отчетах нет критики власти за сокращение численности и тяжелое материальное положение «инородцев»; тема «вымирания» автохтонных народов в отчетах подается гораздо мягче.
По отчетам со всей очевидностью прослеживается общая для всей правительственной политики тенденция к уравниванию правового, социального и экономического статуса инородцев с русским крестьянством. Но в то же время несомненно лучше ориентировавшиеся в сибирских реалиях генерал-губернаторы – во всяком случае часть их – в большей степени склонны к защите интересов региона, а значит, и сибирского, в том числе и инородческого, населения.