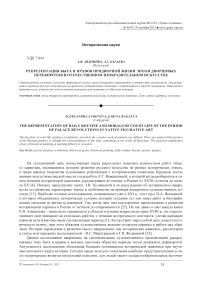Репрезентация быта и нравов придворной жизни эпохи дворцовых переворотов в отечественном изобразительном искусстве
Автор: Авдонина А.В., Багаева З.Г.
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 (99), 2025 года.
Бесплатный доступ
Определяются ключевые сюжеты придворной жизни эпохи дворцовых переворотов в творчестве художников. Анализируются картины русских живописцев на предмет соответствия сведениям, содержащихся в трудах историков. Выявляется практическая значимость использования исторической живописи в обучении истории.
Эпоха дворцовых переворотов, исторический жанр, историческая живопись, быт, нравы, картина, художник
Короткий адрес: https://sciup.org/148332027
IDR: 148332027 | УДК: 7.044
Текст научной статьи Репрезентация быта и нравов придворной жизни эпохи дворцовых переворотов в отечественном изобразительном искусстве
№ 4(99). 29 октября 2025 ■
На сегодняшний день отечественная наука располагает немалым количеством работ общего характера, посвященных истории развития русского искусства на разных исторических этапах, а также анализу творчества художников, работающих с историческими сюжетами. Крупным достижением искусствоведческой мысли стала работа А.Г. Верещагиной, в которой автор разбирается в самом понятии исторической живописи, рассматривает ее генезис в России от XVIII столетия до начала XX [6]. Интерес представляет книга Э.В. Кузнецовой и ее рассуждения об историческом жанре, путях его развития, характерных чертах и особенностях на примере конкретных художественных полотен [13]. Наиболее полным исследованием, появившимся уже в XXI в., стал труд Н.А. Яковлевой, в котором объединились исторические условия, история создания тех или иных работ и биографические сведения из жизни художников. Так, автор дает нам всестороннее представление о развитии исторической картины в России от истоков до современности [25]. Не так давно в свет вышла книга Е.В. Анисимова - известного специалиста в области изучения вопросов истории XVIII в., он сосредотачивает свое внимание на отдельных работах с позиции исторического контекста, уделяя внимание важным культурно-бытовым составляющим периода [1]. Автор ставит перед собой цель донести историческую истину, при этом объясняя художественное видение создателя картины в работе над образами. История зарождения и развития такого направления, как историческая живопись, рассмотрена в статье волгоградских исследователей – В.С. Меркурьевой и Т.П. Федяниной [24].
Данное исследование направлено на систематизацию художественных произведений, раскрывающих тему быта и нравов в высших эшелонах общества периода эпохи дворцовых переворотов. Актуальность исследования обоснована большим потенциалом исторической живописи при изучении школьного курса истории. Сегодня среди молодого поколения наиболее представительным и часто встречаемым является визуальный психотип, для людей такого склада изобразительные источни- ки становятся важным способом получения информации. Работа с репродукциями картин позволяет эффективно вовлечь обучающихся в образовательный процесс, при выполнении системы заданий, школьники «смогут знакомиться с историческими событиями, процессами, терминами и личностями в интерактивной форме, что сделает учебный процесс легким и информативным» [23, с. 25]. Исходя из этого, появляется необходимость рассмотрения ключевых событий истории Отечества на полотнах художников с позиции объективности и, как следствие, заключение их ценности с точки зрения методической работы с обучающимися.
Дворцовые перевороты в России – это важная часть истории страны, отражающая политические сдвиги и борьбу за власть внутри царского двора. Такие перевороты часто начинались с интриг, заговоров и открытых противостояний между различными фракциями дворянства и аристократии. Дворцовые перевороты отражают сложные динамики власти, амбиции и конфликты интересов элиты и правящих классов. В результате этих переворотов часто менялись не только правители на троне, но и внешне- и внутригосударственный политический курс, социально-экономический строй страны. Вместе с тем, эпоха дворцовых переворотов - это исторический период, для которого характерны общие тенденции в повседневной и бытовой составляющей, определенный жизненный уклад самих правителей и их приближенных.
Художники часто находят вдохновение в исторических событиях, исключением не стал и рассматриваемый период. События эпохи дворцовых переворотов предстают перед творцами полными драматизма, политических игр, придворных интриг и межличностных конфликтов, что порождает яркие сюжеты в художественном творчестве периода историзма и последующего десятилетия XX столетия. Интерес живописцев вызвала как эстетическая сторона эпохи, наполненная пышными празднествами, увеселительными действами, красивым церемониалом, так и сильной эмоциональностью, связанной с крутыми поворотами судьбы царствующих особ, уникальными характерами представителей их окружения.
Картины, посвященные эпохе дворцовых переворотов, воплощают различные сюжеты: политическую борьбу за власть, положение людей, попавших в гущу этих событий, придворный быт и т. д. Художники стремятся передать эмоции, анализировать и интерпретировать исторические события с помощью художественных приемов. Произведения, посвященные дворцовым переворотам, являются важным источником по изучению периода, позволяющие нам визуально воссоздать образы ее главных деятелей, перенестись в бурные и судьбоносные события этого времени, почувствовать атмосферу череды политических потрясений в России.
Знакомство с творчеством русских художников показало, что несмотря на всю жестокость, присущую этой эпохе, в большинстве своем, она нашла отражение именно в «праздничных» сценах. В этой связи творчество художников помогает проиллюстрировать быт и нравы придворной жизни середины XVIII столетия. Рассмотрим выбранный аспект на примере ряда произведений русских художников, чье творчество приходится на последнюю четверть XIX - начало XX вв. Для анализа и разбора выбраны следующие работы: В.А. Серов «Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте» (1900), В.И. Якоби «Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны» (1872) и «Ледяной дом» (1878), В.И. Суриков «Императрица Анна Иоанновна в петергофском “Темпле” стреляет оленей» (1900), Д.Н. Кардовский «Императрица Анна Иоанновна и ее двор» (1907), Е.Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905).
В картине «Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте» В.А. Серов стремится «передать дух истории и колорит времени», это придает работе некую жизненность и ощущение исторической достоверности [13, с. 104]. Художник уделяет большое внимание фону, подчеркивая поэтичность русской деревни, сюжет несет в себе и идею социальной конфронтации – стоящие на обочине дороги нищие и несущиеся вихрем роскошно одетые императорские особы. Однако нас прежде всего интересует действо, происходящее на переднем плане. Мы видим, как действующий на тот момент российский император Петр II в веселом расположении духа стремительно проносится верхом со своей любимой теткой мимо толпы людей (см. рис. 1 на с. 37).

Рис. 1. В.А. Серов «Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте», 1900 г.
В одном из своих многочисленных донесений английский дипломат К. Рондо отмечал, что охота с борзыми являлась господствующей страстью царя и «если не большую, то значительную часть своего царствования он провел в лесу и в поле, на охотничьих бивуаках, у костра, на свежем воздухе» [4, с. 157]. Еще один иностранец - испанский посол герцог де Лириа писал, что царь совсем не похож на своего деда, его не интересовало «ни море, ни корабли, а горел он страстно псовой охотой», посему и перебрался из Петербурга, где охотиться негде, в Москву [8, с. 197].
«Целыми месяцами юный правитель пропадал в лесу, в загородных подмосковных охотничьих владениях», он испытывал удовольствие от убийства живности и нахождения в незатейливой компании у охотничьего костра [1, с. 252]. Любовь к подобной забаве становится значительной частью придворной жизни, чтобы приблизиться к императору, всякий «должен был говорить о вещах, ему приятных, доступных: об охоте, собаках и т. п.» [20]. С.М. Соловьев отмечает, что Петр II был не одинок в своих увлечениях и почти все время проводил «в веселых прогулках с неразлучною спутницею – цесаревной Елисаветою Петровною» [Там же].
Будущая императрица Елизавета Петровна, на тот момент еще юная девушка, в свои 18 лет слыла красотой и веселостью. Её не отличало ханжество и пуританские нравы, многим она кружила головы, всем сердцем любила танцы, движение и охоту, что также приходилось по душе и племяннику Петру. Все тот же герцог Лирийский в своем донесении с некоторой долей удивления сообщал, что «принцесса Елизавета сопровождает царя в его охоте, оставивши здесь всех своих иностранных слуг и взявши с собою только одну русскую даму и двух русских служанок», Е.В. Анисимов, приводя данный источник, обращается именно к картине В.А. Серова как воплощению этих слов [4, с. 166].
Поскольку на фоне мы можем наблюдать золотую крону деревьев, то, вероятно, здесь представлена сцена, имевшая место осенью 1727 г. Согласно сведениям, полученным от лиц, близким ко двору, увлечение Петра II своей теткой случилось летом 1727 г., в летний же период 1728 г. в донесениях фиксируется охлаждение отношений между родственниками.
Историки уверены, что между императором и цесаревной, пусть и на короткий срок, но все же сложилась полная гармония во многом потому, что для обоих был привлекателен такой образ жизни. По мнению Н.И. Павленко, Елизавета Петровна даже не прилагала усилий к тому, чтобы повлиять на Петра и уберечь его как от разгульных похождений, так и непреодолимой страсти к охоте, «более того, ее вполне устраивала беззаботная жизнь племянника, заполненная удовольствиями и развлечениями всякого рода: эта жизнь полностью соответствовала ее собственным вкусам» [15, с. 95]. Подмечает тягу юных членов императорской фамилии к сплошному удовольствию и Е.В. Анисимов, утверждая, что «оба оказались изрядными прожигателями жизни и без ума любили развлечения: праздники, поездки, танцы и особенно охоту» [3, с. 50]. Так, В.А. Серов мастерски изображает живость и легкомысленность своих героев, их беспечность и веселье исторически точно характеризуют суть каждого: мальчика-царя и будущей «веселой царицы» Елизаветы Петровны [6, с. 111].
Наибольший интерес среди правителей эпохи дворцовых переворотов вызывают нравы периода царствования Анны Иоанновны. Как известно, она больше государственных дел уделяла внимание развлечениям. Ее окружение составляли многочисленные карлики, горбуны и шуты. Историк С.Ф. Платонов отзывается о подобных увеселениях как о грубых, отмечая, что жизнь при дворе была полна большим количеством «расточительных празднеств» и «жестоких затей» [16]. Неудивительно, что подобного рода склад нравов двора императрицы стал в высшей степени благодатным сюжетным полем для творчества художников. Одним из первых это понял В. Якоби. Две его работы, посвященные придворным утехам рассматриваемого периода, получили широкую известность.
Одной из них является «Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны». На картине В.И. Якоби изображена спальня недомогающей правительницы (см. рис. 2). В помещении мы видим 25 фигур, большинство из которых представляют собой реально живших людей и угадываются они как по визуальным характеристикам, так и по своим действиям на полотне. Среди них - сподвижники, политические деятели, придворные дамы, и, конечно же, шуты, которые стараются поднять императрице настроение.
На полотно попали все любимцы Анны Иоанновны, о которых упоминает в своей работе Н.И. Костомаров: «В числе придворных привилегированных шутов государыни известны: Балакирев, исполнявший эту обязанность еще при Петре Великом, португальский жид Д’Акоста и итальянец Педрилло, прибывший в Россию в качестве скрипача и нашедший для себя выгодным занять должность царского шута. Кроме этих специальных царских шутов, были еще трое шутов, принадлежавших к аристократическим родам: князь М.А. Голицын, князь Н.Ф. Волконский и граф А.П. Апраксин» [12]. А подле кровати, на полу, расплылась в улыбке А.И. Буженинова – карлица-шутиха. Представители родовитой знати попадали в шутовское услужение за различные проступки перед царицей.

Рис. 2. В.И. Якоби «Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны», 1872 г.
Сама задача шутов при Анне Иоанновне была предельно ясна - удовлетворять примитивные развлекательные запросы двора. Это сильно отличалось от функционального значения шутов в петровское время. Петр особо ценил тех, кто мог насмешливо изобличать человеческие пороки, быть находчивым и уметь острословить, тем самым указывать, в частности, на нечистоплотность высокопоставленных лиц. Анна же ожидала от шутов другого - они должны были просто вызывать смех, при этом совершенно безразлично какие приемы шли для этого в ход: будь до кривляния, кувыркания или даже по- бои. Государыню забавляли диковатые шутки с унижением человеческого достоинства. Е.В. Анисимов передает рассказ одного из современников события, зафиксированного Г.Р. Державиным, который ведает о том, как императрица, «выстроив шутов друг за другом, заставляла толкаться, что приводило к драке и свалке» [2, с. 83]. Историк Н.И. Павленко приводит в своем труде мнение одного иностранца, который также с недоумением отзывался о подобном зрелище: «Способ, когда государыня забавлялась сими людьми, был чрезвычайно странен. Иногда она приказывала становиться к стенке, кроме одного, который бил их по поджилкам и чрез то принуждал их упасть на землю. Часто заставляли их производить между собою драки, и они таскали друг друга за волосы и царапались даже до крови. Государыня и весь ее двор, утешаясь сим зрелищем, помирали со смеху» [14, с. 136–137]. Если сравнивать письменные свидетельства с художественным произведением В.И. Якоби, то станет очевидно, что шутовская чехарда в живописном исполнении выглядит безобидно и несколько идиллически. К тому же, угасающую государыню уже мало забавляли проделки шутов, на ее лице едва проглядывается улыбка.
На картине мы видим роскошь дворцовых интерьеров и количество придворных лиц, все это лишний раз подтверждает слова В.О. Ключевского о том, что двор при Анне Иоанновне обходился в пять, а то и в шесть раз дороже, нежели при Петре Великом [10].
Ярким примером расточительства тех лет стал сюжет второй картины художника под названием «Ледяной дом». Эта история получила широкую известность после выхода одноименного романа авторства И.И. Лажечникова, в котором подробно и исторически достоверно раскрывалась знаменитая придворная затея конца царствования Анны Иоанновны. На живописном полотне мы видим воплощение потехи императрицы – шутовскую свадьбу в построенном специально для этого доме изо льда (см. рис. 3). Сама идея зимней публичной забавы принадлежит камергеру А.Д. Татищеву, а воплощать ее в реальность взялся государственный деятель А.П. Волынский [14, с. 142].

Рис. 3. В.И. Якоби «Ледяной дом», 1878 г.
Необходимо отметить, что к событию подошли со всей серьезностью, начав приготовления еще осенью 1739 г. Самодержица подписала указ, согласно которому из отдельных частей империи должны были прислать в Петербург представителей этнических групп для участия в маскарадном шествии. Требования отправились к казанскому губернатору, а также архангелогородскому, московскому, киевскому и иркутскому.
Так, у С.М. Соловьева читаем: «Придумали устроить живую этнографическую выставку, выписали по паре инородцев, подвластных России, которые должны были участвовать в торжестве шутовской свадьбы, плясать по-своему, петь свои песни и за свадебным столом насыщаться своими национальными кушаньями» [22]. Похожее описание встречаем у Н.И. Костомарова: «На этот праздник выписа- ны были участники из разных краев России: из Москвы и ее окрестностей доставили деревенских женщин и парней, умеющих плясать; из восточной России повелено было прислать инородцев по три пары мужского и женского пола - татар, черемис, мордвы и чувашей», не дурных собою, одетых в народный костюм и готовых исполнять национальную музыку [12]. Важно, что одевать всех должно было непременно в «новое платье и приборы, какие у них употребляются, на казенный счет» [14, с. 143]. Процессия, как видно, также состояла из шутов и карликов, переодетых в животных. Все это поистине соответствовало представлениям о русской ярмарке. Национальный колорит с традиционным костюмами, плясками, музыкальными инструментами, блюдами на подносах и другими тончайшими мелочами смог удачно отразить В.И. Якоби в своей работе.
Конечно же, на картине фигурируют непосредственные виновники торжества – любимые шут и шутиха императрицы Анны – князь Михаил Голицын и калмычка Авдотья Буженинова. В день их свадьбы - 6 февраля 1740 г., обоим героям пришлось нелегко. Выполняя предписания устроителя праздника, брачующиеся оказались внутри клетки на движущемся слоне, где они восседали, пока за ними следовали «инородцы на волах, свиньях, оленях, собаках и др.» [Там же, с. 144]. После большого пира с национальными яствами у Зимнего дворца, соблюдая все условия церемониала, «молодоженов» отправили на ледяное ложе с приставлением караульных, дабы не повадно им было сбежать. Художник избавляет зрителя от полной визуализации столь унизительной сцены, тщательно прорабатывая только образы «потерпевших», о безвыходном положении которых красноречиво говорят их позы и выражение лица.
Отдельного внимания заслуживает строительство самого Ледяного дома. Его проект был разработан «академиком-математиком Георгом Крафтом» [1, с. 245]. Располагался он на Неве между двумя архитектурными доминантами столицы - Адмиралтейством и Зимним дворцом. Дом был малогабаритным: «длина равнялась 8 саженям, а ширина – 2,5» [14, с. 142–143]. Оценить размеры сооружения на картине Валерия Якоби в соответствии с его реальными параметрами не представляется возможным, поскольку просматривается лишь один из углов ледяного дворца.
У историка С.М. Соловьева представлено довольно подробное описание элементов комплекса для зимнего увеселения. Близ самого дома разместили ледяные пушки, из которых была устроена пальба для потехи публики, из пасти ледяных дельфинов по ночам извергалась зажженная нефть; повсюду были расставлены статуи в виде ледяных птиц, которые сидели на таких же ледяных деревьях с ледяными ветками и листьями; поражала и фигура ледяного слона в натуральную величину: днем он извергал воду, а ночью «из его хобота бил горящий нефтяной фонтан» [18, с. 4; 22]. Все это великолепие находилось вне стен дома, поэтому в работе В.И. Якоби мы не найдем ничего похожего. Художник сосредоточил внимание на главных действующих лицах - людях, придав меньше внимания декорациям действа.
Увы, картина также не позволяет увидеть все то богатство внутреннего убранства, о котором живо отзывались очевидцы. Так, Н.И. Павленко обращается к воспоминаниям современников события, которые описали обстановку дома, где изо льда было сделано абсолютно все, «начиная от кровати, столов, стульев, кресел и кончая горшками с цветами, <...>, подсвечниками» [14, с. 143]. О ювелирно исполненной работе пишет Е.В. Анисимов: была представлена ледяная посуда, «часы и даже игральные карты», также «выкрашенные в свои естественные цвета» [4, с. 389].
Известно, что дом произвел огромное впечатление на жителей города, поскольку создавал ощущение великолепия столь сильного, будто сделан он был из самого лучшего мрамора. Можно сказать, в этом был основной смысл постройки - удивить и поразить смотрящего. Во многом, это отвечало нравам высшего общества XVIII столетия, где прочно прижилась любовь ко всевозможным «куриозам», когда на первый взгляд вещь реальная, а после внимательного осмотра выясняется вся правда об искусном муляже. Тем самым в одной из своих работ Е.В. Анисимов даже уличает художника в неточности, т. к. на его картине дом с явной видимостью выполнен из вполне определенного материала – льда. Однако вместо этого должен представлять собой умело выкрашенную «обманку» [1, с. 248–249].
Однако, вряд ли В.И. Якоби не знал об этих особенностях устройства Ледяного дома. Вероятно, художник намеренно не стал «раскрашивать» дом и все его наполнение, чтобы зритель со всей точностью осознал атмосферу места, прочувствовал тот самый февральский мороз, который пришлось ощутить на себе участникам шутовской свадьбы, а также испытал леденящий ужас от жестоких потех императрицы, глядя на покорно замерзающих главных действующих лиц.
Перечень развлечений двора императрицы Анны был бы неполным без упоминания еще одного ее пристрастия. В этой связи, интересной представляется работа В.И. Сурикова, на которой изображена сцена охоты императрицы Анны Ивановны (см. рис. 4). Данное занятие являлось для нее одним из главных увлечений в жизни.

Рис. 4. В.И. Суриков «Императрица Анна Иоанновна в петергофском “Темпле” стреляет оленей», 1900 г.
Н.И. Костомаров отмечает, что императрице «нравилось забавляться стрельбою, и это делалось внутри дворца <…>. Ей привозили также во дворец зверей и птиц для примерной охоты» [12]. Также историк освещает тот факт, что дворцовые охотничьи достижения ее величества публиковались в газетах того времени. Подданным даже запрещалось вести охоту на дичь, зайцев и куропаток в пределах ста верст от столицы, дабы у царской потехи не было дефицита в живности, а за нарушение запрета могло последовать жестокое наказание [Там же].
В названии картины вполне четко обозначена локация, на фоне которой разворачивается сцена - Петергоф. Эти земли перешли во владение Анны Иоанновны в начале 1730-х гг., и она распорядилась приспособить их под охотничьи угодья. Что же означает название в кавычках? «Темпль» – это павильон на территории паркового комплекса, построенный из дерева по указанию самой Анны Иоанновны [17]. Его возвели для удобства царской «охоты». Из записок Эрнста Миниха известно, что в Петергофе был заложен зверинец, в который привозились и выпускались «из Немецкой земли и Сибири зайцы и олени» [19, с. 257]. Так, в верхней части парка была выстроена егерская слобода, а также созданы специальные загоны для животных, из которых звери бежали, гонимые собаками. Здесь они и попадали в нижнюю часть парка с вышеупомянутым павильоном, где их уже «ожидала» императрица для осуществления рокового выстрела.
Принято считать, что это увлечение Анны Иоанновны не имело почти ничего общего с традиционной в русских землях соколиной охотой или охотой с борзыми, для которых немаловажное значение имели знания о повадках того или иного зверя, представление об организации гона и, наконец, чутье охотника. Как пишет историк Е.В. Анисимов, Анну привлекала не сама охота, а «стрельба в живую мишень», что больше походило на обыкновенный отстрел [4, с. 234].
Однако вместе с тем, надо признать, что она была поистине прекрасным стрелком. Эрнст Миних свидетельствовал, что Анна Иоанновна в этом деле «приобрела такое искусство, что без ошибки по- падала в цель и на лету птицу убивала», а для этой утехи в комнатах дворца всегда стояли заряженные ружья, чтобы стрелять в живность можно было прямиком из окна [19, с. 257].
Что же касается самой картины, то В.И. Суриков буквально воссоздает то, что позже приведет в своем труде Н.И. Павленко в качестве подтверждений охотничьих достижений императрицы. Историк приводит несколько ярких эпизодов разных лет, но самым точным представляется следующий: в 1732 г., перед тем как вернуться в столицу, Анна Иоанновна изволила устроить «последний кураж и в тот же день развлекалась охотой в зверинце, застрелив оленя с шестью отраслями на рогах» [14, с. 140].
Можно сложить вполне конкретные представления о дворе Анны Иоанновны по работе художника Д.Н. Кардовского. Выход императрицы из дворца сопровождает большая свита из ярко одетых и напомаженных знатных лиц (см. рис. 5). На территорию близ здания приводят лошадей и готовят собак – вскоре будет прогулка и, вероятно, она будет сопровождена охотой. Известно, что Анна Иоанновна очень любила лошадей и верховую езду [12]. Н.И. Костомаров пишет, что еще одной страстью императрицы были наряды, она предпочитала яркие краски, доходило до того, что «никто не смел являться во дворец в черном платье» [Там же]. По воскресным дням и четвергам во дворце справлялись так называемые куртаги, сюда стекался весь свет – разодетые в цветные одежды вельможи, занятые танцами, азартными играми, усиленно пытающиеся состроить натужную улыбку и довольную собой физиономию [Там же]. Герцог Лирийский в своих свидетельствах отмечал, что двор Анны Иоанновны превосходит все европейские по своему великолепию, а сама императрица настолько чрезмерно любила пышность и помпезность, что была «щедра до расточительности» [7, с. 248].

Рис. 5. Д.Н. Кардовский «Императрица Анна Иоанновна и ее двор», 1907 г.
Правление Елизаветы Петровны запомнилось празднествами, балами и фейерверками не меньше, чем ее предшественницы. Так, о нем писал В.О. Ключевский: «Вступив на престол, она хотела осуществить свои девические мечты в волшебную действительность; нескончаемой вереницей потянулись спектакли, увеселительные поездки, куртаги, балы, маскарады, поражавшие ослепительным блеском и роскошью до тошноты. Порой весь двор превращался в театральное фойе» [11].
Именно такое, отчасти театрализованное представление, с яркими декорациями являет собой работа Е.Е. Лансере. Перед нами предстает прекрасный Екатерининский дворец в Царском Селе и спускающаяся из его парадного входа Елизавета вместе со свитой (см. рис. 6 на с. 43). Е.В. Анисимов метко обозначил, что дворцы для Елизаветы выступали в качестве огромных сцен, на фоне которых «разыгрывалась бесконечная пьеса ее жизни с переодеваниями, праздниками, обедами, приемами» [3, с. 239]. Порой в этой веренице развлечений и отдыха от них, министрам было сложно найти подходящий случай, чтобы поднести тот или иной документ для получения заветной подписи.

Рис. 6. Е.Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе», 1905 г.
Герои картины изображены не без некоторых изъянов - налицо «сытое» елизаветинское время. Однако вместе с некой плотностью и упитанностью придворных и самой императрицы, мы можем наблюдать за этим их приближенность к реальности, перед нами вполне живые люди. Иногда им «свойственная манерность в поведении и жестах», читается напыщенность дворцового этикета, сама императрица выходит на обычную прогулку «разнаряженной и нарумяненной» [9, с. 376]. Неслучайно «одежда их изобилует пестротой», это было вполне естественным при дворе Елизаветы, которую не отличал безукоризненный вкус [5, с. 488]. Однако есть важная деталь - художник передает нам атмосферу бодрости и жизнелюбия, присущие императрице и ее времени.
Таким образом, можно отметить, что творчество русских художников с большей долей объективности отображает события эпохи дворцовых переворотов, дает представление о сложившихся нравах этого периода. Конечно, стоит учитывать, что череда празднеств и развлечений, изображенных художниками, это лишь одна сторона жизни при дворе правителей рассматриваемого периода. Появлялись новые политические институции, происходил территориальный прирост страны, совершались крупные культурные и научные прорывы и было бы неверным судить об эпохе только через призму бытовавших дворцовых нравов. Однако визуализировать вполне правдивые сюжеты прошлого, являвшиеся частью культурной истории, представляется возможным с помощью картин отечественных живописцев, тщательно выбиравших сюжеты для своих произведений, внимательно работавших над образами и составлявших картинное описание интересных бытовых историй второй четверти и середины XVIII столетия.